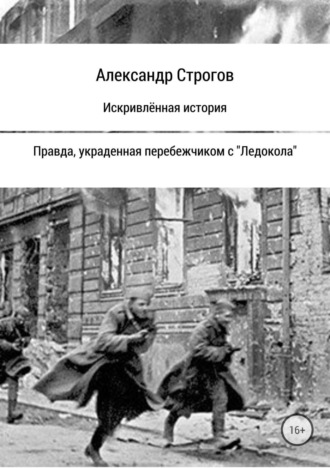
Искривлённая история
Итак, речь действительно изначально шла об обороне, причём на стратегическую глубину, а Первому Стратегическому эшелону предстояло быть разгромленным ещё в самом начале войны! Это очень необычная точка зрения на начальный период Великой Отечественной войны, но она отлично объясняет очень необычную ситуацию, возникшую на оперативных картах.
Нужно добавить несколько слов и о самом В. Суворове (В. Резуне). Ныне историк, он некогда служил в Советской Армии, участвовал в операции «Дунай» в 1968 г. (вторжение в Чехословакию) и отлично знал все достоинства и недостатки советских танковых и мотострелковых частей, о чём охотно повествует в своих «Рассказах освободителя». Затем, проходя службу в резидентуре ГРУ в Женеве на должности военного атташе, он вдруг перебежал на противоположную сторону – в Великобританию, государство, являющееся одной из главных опор НАТО. Конечно, не потому, что верил в победу коммунизма – наоборот, В. Суворов (В. Резун) был уверен в слабости ВС СССР, несмотря на то, что те, как и в 1941 г., имели в своём составе больше танков, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых. Это его собственная оценка советской танковой мощи – нужно быстренько бежать с этого корабля.
Сколько на самом деле танков было у Советского Союза 22 июня 1941 г., является предметом горячих споров, привлекающих сонмы историков со всего мира. Общая численность танков достигала 25 784 единиц, из которых 15 687 находились в приграничных западных военных округах, в то время как Германия и её союзники развернули на границе с СССР 4 171 танков и САУ. Согласитесь, это очень много. Даже Первый Стратегический эшелон обладал более чем 3, 76-кратным преимуществом над противником. Однако исход боёв показал полное превосходство немецких войск; ни один из мощных танковых контрударов РККА, осуществлённых в начальный период, не достиг поставленных целей – более того, во всех случаях советские мехкорпуса потерпели полный разгром и были окружены и уничтожены численно уступающими группировками противника.
Всего до конца года РККА потеряла 20, 5 тысяч танков. Любой скажет: это подозрительно много. Я скажу больше: это слишком много для армии, которая якобы сильнее в качественном отношении.
Потери РККА в живой силе являются более сложным и противоречивым вопросом. Я воспользуюсь данными Г. Кривошеева, несмотря на то, что они оспариваются рядом исследователей, как в сторону более высоких, так и более низких цифр – более по причине того, что консультант Военно-мемориального центра ВС РФ Г. Кривошеев, собирая и систематизируя информацию, пользовался значительной поддержкой властей, поэтому эти данные претендуют, с некоторой натяжкой, на то, чтобы полагаться официальными. Безвозвратные (убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран и болезней и пленными) потери РККА в 1941 г. составили 3, 137 млн. чел. против 209, 6 тыс. чел., согласно сводкам ОКХ80, у Германии. 15-кратное преимущество в потерях – это невероятно много. Едва ли можно верить в легенду о готовности СССР к войне, глядя на такую статистику.
В. Суворов (В. Резун), отстаивая созданную им теорию, сколь сомнительную, столь и занимательную, так много говорит о танковой мощи Страны Советов, что тут, казалось бы, говорить больше не о чем. Советских танков многократно больше, они всем лучше. Дошло до войны – просто металлолом. В чём дело? Что ж, давайте ещё раз посмотрим на автобронетанковые войска РККА, как они именовались официально в 1941 г.
Основой танкового парка был танк Т-26, производившийся, начиная с 1931 г., по лицензии. На самом деле это английский танк фирмы «Виккерс», модели “Mk. E”, или «Виккерс 6-тонный». Такие вот у И. Сталина (И. Джугашвили) были отношения с мировой буржуазией – они ему всегда продавали и оружие, и лицензию на его производство, а когда оружие это устаревало, помогали новыми технологиями и специалистами, с целью осуществления модернизации.
Разработанный фирмой «Виккерс-Армстронг» в 1930 г., танк был отвергнут британской армией и поступил на вооружение лишь за рубежом, в таких выдающихся в военном отношении странах как Боливия, Парагвай, Болгария, Финляндия, гоминдановский Китай, Польша, Турция, Португалия, Сиам – и, конечно, СССР. Здесь производство танка, численность которого только в Польше достигла 38 единиц, было налажено стахановскими темпами – всего из советских цехов вышло 11 218 танков Т-26, как он теперь стал называться. Первые 1626 машин были, как и их английский прототип, двухбашенными, более двух третей – с чисто пулемётным вооружение. На базе Т-26 было создано целое семейство машин, включая химические (огнемётные) танки, мостоукладчики, телеуправляемые танки с подрывными зарядами и самоходные артиллерийские установки с 76-мм короткоствольной пушкой (в серию не пошли). Т-26 оснащался 90-сильным бензиновым двигателем, позволявшим развивать скорость в 30 км/ч по шоссе; бронирование лба и борта корпуса и башни составляло 15 мм; вес достиг 8 т. Необходимо заметить, что лишь часть танков (всего 3416 шт.) была оснащена радиостанциями.
Т-26 танк, изначально разрабатывавшийся как пехотный, в период его создания уже не соответствовал задачам непосредственной поддержки наступающих стрелковых подразделений на поле боя, что и стало причиной критического к нему отношения на родине. Впрочем, в менее развитых в военном отношении странах, как легко заметить, к нему отнеслись с гораздо большим воодушевлением. Конечно, ставшая заметной даже в СССР слабость вооружения, принудила уже в 1933 г. отказаться от двухбашенной компоновки и перейти к однобашенной, с 45-мм орудием в качестве главного калибра. Эта модификация, наиболее многочисленная, прочно ассоциируется в сознании исследователей истории РККА с танком Т-26.
Нельзя подходить огульно к оценке роли этого танка в истории Второй мировой войны. По сравнению с 38 польскими «Виккерсами 6-тонными», из которых лишь 16 относились к модификации “Type B”, то есть однобашенными, с 47-мм пушкой, это была грозная сила. Наличие её обеспечило присоединение значительной части территории Польши в 1939 г.
Однако бои с Вермахтом показали недостаточность бронирования и вооружения Т-26, в чём сходится большинство авторов, исключая В. Суворова (В. Резуна), который полагает Т-26 сильнее большей части немецких танков даже в 1941 г. Что ж, давайте сравним их и вынесем собственные суждения.
Немецкая концепция строительства танковых войск изначально отличалась от британской. Если англичане делили танки на пехотные и крейсерские, предназначенные для прорыва в глубину боевых порядков противника, то немцы такого различия не делали. Все их танки изначально предназначались для маневренных операций, в то время как задачи непосредственной поддержки пехоты принадлежали полевой артиллерии; лишь в 1940 г. в войска начали поступать САУ StuG III, разработанные нарочно с этой целью. Не прижились в немецких войсках разведывательные танки – созданные в 1942 г. и производившиеся до 1943 г. включительно в количестве всего лишь 131 шт. танки “Luchs” (нем. «рысь»), скорее, подтверждают, нежели опровергают это утверждение.
Это позволяет говорить о том, что в немецких войсках вообще не было прямого аналога Т-26, хотя в 1939 – 1941 годах, когда возникла вероятность советско-германской войны, и она началась, большинство танков, находившихся на вооружении Вермахта, находились в той же «весовой категории», что позволяет сделать соответствующие сравнения.
Итак, Pz.Kpfw.I, наиболее ранний танк, поступивший на вооружение противника. По сравнению, с Т-26, он имел более технологичную конструкцию – корпус и башня его были сварными, а не скреплялись заклёпками и болтами. Бронирование башни и корпуса колебалось в пределах 8 – 15 мм, листы в большинстве случаев располагались с наклоном, что увеличивало защищённость танка. При весе в 5, 4 т Pz.Kpfw.I, благодаря всего лишь 57-сильном (более чем 1, 5 раза уступающему по мощности таковому на Т-26), развивал по шоссе скорость в 37 км/ч. Вооружение составляли два спаренных пулемёта MG-13, оборудованных электроспуском, размещённые в одной башне. По сравнению, с Wickers Mk.E, Type A, Pz.Kpfw.I превосходит его во всём – настолько, что этот танк можно считать пригодным для маневренной войны. Несмотря на то, что более лёгкое вооружение не позволяло Pz.Kpfw.I тягаться с Т-26, отметим главное: это более передовая и совершенная машина, по сравнению с прототипом советского танка. Численность Pz.Kpfw.I в немецких войсках, которым предстояло участвовать в операции «Барбаросса», была крайне невысока – максимальная цифра, которую называют источники, равна 410. Остальные пребывали в ремонте или на переоборудовании в САУ, огнемётные танки, мостоукладчики и др.
Танки Pz.Kpfw.II, которых на 1 июня 1941 г. было 1074 единицы, сыграли весьма значительную роль в операции «Барбаросса» (909 шт., включая 84 огнемётных). Танк этот, несмотря на слабое бронирование, слабое вооружения, недостаточный запас хода и пр., производился вплоть до 1943 г. включительно – общая численность выпущенных машин всех модификаций, включая САУ на его шасси, достигла 8500 шт. Чем же он был так хорош, что смог пройти всю войну, если в марте 1945 г., когда все танки воюющих стран существенно потяжелели, в войсках оставалось ещё 145 единиц Pz.Kpfw.II?
При создании Pz.Kpfw.II получили развитие идеи, зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны при разработке и производстве его предшественника, Pz.Kpfw.I. Мощность двигателя достигла 140 л. с. , что обеспечивало 8,9-тонному танку скорость в 40 км/ч по шоссе, при запасе хода в 125 км. Бронирование корпуса и башни достигло 14,5 мм, что по перечисленным показателям позволяет сравнивать данный танк с Т-26.
Но как же вооружение, спросят меня? Разве 45-мм пушка обр. 1932/38 годов (20-К), несмотря на то, что имела «близкую бронепробиваемость», и два пулемёта ДТ калибра 7,62 мм слабее 20-мм пушки 2 cm KwK 30 и единственного пулемёта MG-34 калибра 7,92 мм? Ещё как слабее, скажу я вам! Начнём с пулемётов: ДТ, как по темпу стрельбы, так и по практической скорострельности, уступал своему немецкому визави, и наличие второго пулемёта в данных обстоятельствах ничего не меняло. Сразу же скажу, почему: пушка KwK 30 была автоматической. Это оружие способно было просто сметать живую силу противника с поля боя. Подкалиберный бронебойный патрон с сердечником из карбида вольфрама развивал скорость в 1050 м/с и на дистанции в 500 м пробивал 20-мм броневой лист (напомню, лоб башни и корпуса Т-26 имели бронирование в 15 мм).
Наибольшую ставку немецкие стратеги делали, конечно, на Pz.Kpfw.III, численность которых в войсках, задействованных против СССР, достигала 1000 единиц. Всего был произведён 5691 танк этого типа всех модификаций. Оснащённый 285-сильным двигателем, он развивал скорость в 67 км/ч по шоссе при запасе хода в 165 км. Этот танк обладал экипажем в 5 чел.; его вооружение составляла одна пушка (37 мм или 50 мм, в зависимости от модификации) и три пулемёта MG-34. Это был настоящий основной танк, весивший 19,8 т – более чем вдвое, по сравнению с Т-26.
Пушка калибра 37 мм, устанавливавшаяся на ранних модификациях Pz.Kpfw.III, была оборудованным электрозапалом танковым вариантом противотанковой 3,7 cm Pak 35/36, получившей прозвище «дверная колотушка» (нем. anklopfgerät). Несмотря на многочисленные нарекания на слабую бронепробиваемость, эта пушка обладала высокой (до 15 выстрелов в минуту) скорострельностью и была способна вывести из строя большую часть советского танкового парка. С расстояния в 300 м её бронебойный подкалиберный снаряд пробивал 50-мм броневой лист, а с расстояния в 500 м – 30-мм, причём обычным, калиберным бронебойным снарядом. Не говоря уже о Т-26, это орудие было вполне пригодно и для борьбы с Т-34, о чём свидетельствуют и советские источники. 50-миллиметровая пушка (5 cm KwK 38) бронебойным снарядом PzGr. 39 пробивала с расстояния в 500 м, 1000 м и 1500 м броню толщиной в 50, 42, 32 мм соответственно. Это делало Pz.Kpfw.III способным поражать Т-34, обладавшим бронированием башни и корпуса в 45 мм, на дистанциях до 1 км, не считая советских танках с более слабой защитой, в первую очередь, Т-26.
Pz.Kpfw.IV, самый массовый немецкий танк Второй мировой войны (выпущено 8686 шт.), к моменту начала операции «Барбаросса» был относительно мало распространён – упоминается лишь о 439 танках этой модели в войсках по состоянию на 1 июня 1941 г. На нём устанавливались двигатели мощностью 250 л.с. и 300 л.с. (с рекомендованной частотой оборотов, дающей фактическую мощность в 265 л.с.), что обеспечивало машине, чей вес достигал 21 т, скорость в 42 км/ч по шоссе при запасе хода в 200 км. Лобовое и бронирование башни и корпуса составляло 30 мм, отдельные участки усилены до 50 мм, в то время как боковое бронирование составляло 15 – 20 мм. Экипаж из 5 человек обслуживал одну 75-мм пушку и 2 пулемёта MG-34. Короткоствольная пушка 7,5 cm KwK 37, составлявшая главное вооружение в 1941 г., с расстояния в 1500 м пробивала 33-мм броню бронебойно-трассирующим снарядом, а кумулятивные снаряды разных типов на этой дистанции пробивали броню толщиной от 70 мм до 100 мм. Таким образом, Pz.Kpfw.IV, мог противостоять не только Т-34, но и КВ-1, с его 60-75-миллиметровой бронёй лобовых и боковых частей корпуса и башни. Т-26, как нетрудно догадаться, представлял для него достаточно лёгкую добычу.
Итак, сравнение Т-26, составлявшего почти половину советского танкового парка в 1941 г., с немецкими танками, выявило значительное конструктивное преимущество, а также преимущество в огневой мощи танков Pz.Kpfw.II, Pz.Kpfw.III, Pz.Kpfw.IV; два последних танка также обладали куда более мощным бронированием.
Глава 50. Чехословацкая «броня»
Гораздо легче установить неправильный стандарт, чем правильный
Г. Форд
Захват Чехословакии дал А. Гитлеру доступ к значительному количеству танков, произведённых в этой стране – и так и не вступивших в бой. Германия, не имевшая к тому времени такого количества танков, как Франция и СССР, с радостью включила их в собственный танковый парк. Кстати, осуществляя агрессию против этих двух стран, немецкие танковые войска в обоих случаях численно уступали противнику. Немалую роль в кампаниях 1940 – 1941 гг. сыграли чешские танки, принятые на вооружение Вермахта.
В Чехословакии существовал собственный военно-промышленный комплекс, производивший вооружения оригинальной конструкции, включая стрелковое оружие, артиллерию и бронетехнику. Концерн «Шкода», прославившийся ещё в годы Первой мировой войны, обладал мировой известностью: любопытно, но при штурме фортов Льежа в 1914 г. даже кайзеровская Германия, по причине несвоевременного выполнения заказа фирмой «Крупп», вынуждена была воспользоваться 305-мм орудиями конструкции «Шкоды». На заводах оккупированной Чехословакии было произведено 1400 танков и 4500 САУ, поставленных в немецкие войска.
Танк LT vz.35, захваченный в количестве 219 шт., представлял собой добротную машину весом 10,5 т, с лобовой бронёй башни и корпуса в 25 мм и боковой – в 16 мм. 120-сильный двигатель придавал ему скорость в 34 км/ч по шоссе. Вооружение состояло из 37-мм пушки и двух пулемётов 7,92 мм.
Танки, переименованные в Pz.Kpfw.35 (t), успешно участвовали в польской кампании, а затем и в кампании на Западе. В июне 1941 г. Вермахт обладал 198 танками этого типа, 160 из которых (включая 11 командирских), располагались на советско-германской границе.
LT vz.38, ставший впоследствии Pz.Kpfw.38 (t), разработанный под руководством русского эмигранта А. Сурина, обладал таким же, что и его предшественник, вооружением, двигателем и бронированием, однако превосходил в скорости (48 км/ч по шоссе) при несколько меньшей массе (9,7 т). Это была вполне современная машина, выпуск которой продолжался и в период оккупации. В июне Вермахт имел 779 танков этого типа, 660 из которых были сосредоточены против СССР.
Боевые столкновения Pz.Kpfw.35 (t) и Pz.Kpfw.38 (t) советскими танковыми войсками показали их способность противостоять Т-26 и БТ, а также разведывательным танкам с пулемётным вооружением, машинам, в сумме составлявшим до 90% советского танкового парка, однако немцы в целом остались ими недовольными – слишком хрупкая броня, качественно уступавшая «крупповской», оказалась уязвимой к огню советских противотанковых пушек. О. Кариус, знаменитый танковый ас, одержавший до 200 побед, начинал свой боевой путь на Pz.Kpfw.38 (t) и даже был в нём подбит. Прямое попадание 45-мм снаряда, по его словам, принесло гораздо меньший вред, чем расколовшаяся в результате бронеплита – её осколком радисту начисто отсекло руку, а сам О. Кариус, судя по фразе «мои выбитые зубы скоро оказались в мусорном ведре медпункта», получил ранение, раскрошившее ему челюсть.
Русская зима и морозы стали дополнительным испытанием для пневматического сервопривода коробки передач Pz.Kpfw.35 (t); последний танк этой модели вышел из строя 10 декабря 1941 г. Pz.Kpfw.38 (t) продержались на передовой несколько дольше – до середины 1942 г.
Несмотря ни на что, чехословацкие танки показали себя вполне эффективным оружием в боях первых месяцев войны, так как по основным ТТХ (бронирование-скорость-проходимость-вооружение) уступали лишь новейшим Т-34 и КВ, однако танковые дивизии, оснащённые и такими танками, взаимодействуя с господствующей в небе немецкой авиацией и выдвигая вперёд 88-мм зенитные орудия, вполне могли противостоять почти неуправляемым мехкорпусам РККА, даже если те имели на вооружении с виду более современные машины. Переход Красной Армии к танковым бригадам, надёжно привязанным в ходе боёв к собственным тылам, показал их полное превосходство, и трофейные «шкоды» достаточно быстро «выбыли» из строя.
Глава 51. Танки, сдавайтесь!
Авиация не может отыскать конницу и мехчасти, потому что всё это тщательно скрывается в лесах от авиации противника
генерал армии Д. Павлов, 30 июня 1941 г.
Впрочем, пример с танком Т-26, несмотря на его видимую убедительность, подкреплённую, кстати, результатами боёв 1941 г., мог убедить далеко не всех. Ведь скажут – очень многие скажут, – что Т-26 был танком устаревшим, в то время как на вооружении РККА состояли орды ультрасовременных танков серии БТ, в конструкции которых широко использовались решения, далеко опередившие своё время. Одна их способность сбрасывать гусеницы для глубокого рывка по автострадам вглубь вражеской территории, сверхмощный авиационный двигатель, позволяющий развивать скорость, как у легкового автомобиля – эти качества, синонимы всего передового, столь характерного для советского общества периода сталинизма, должны убедить кого угодно в том, что И. Сталин (И. Джугашвили) должен навсегда остаться в истории как гений всех времён и народов.
Должен, чтобы никого не довести до обморока или, хуже, инфаркта или инсульта, начать издалека. И. Сталин (И. Джугашвили), несомненно, должен остаться в истории хотя бы потому, что связался с танками Дж. Кристи. Американец Дж. Кристи был известен как последовательный сторонник весьма оригинального конструктивного решения – установки на танк катков, способных, после снятия гусениц, использоваться и в качестве колёс. Он же разработал оригинальную подвеску, оставшуюся в истории под его именем, весьма сложную и своеобразную. Дж. Кристи на родине, в США, считали большим сумасбродом и в перспективы, которые откроются перед его изобретениями в ближайшем будущем, откровенно не верили. Его до известной степени поощряли, периодически давая заказы на разработку тех или иных машин, но ни одну из них так и не приняли на вооружение. Решения, которые предлагал Дж. Кристи, всем казались сложными, неуместными, дорогостоящими и даже чуточку иррациональными. В отличие от «Виккерса 6-тонного», его танками не заинтересовались даже Парагвай или Сиам.
Впрочем, советские военачальники, которые были отнюдь не парагвайцы, регулярно посещали немецкие танковые учения на полигоне «Кама» (советская это территория или нет, наконец?), а также самым тщательным образом штудировали британские учебники – ведь всем известно, что англичане являются пионерами в области танкостроения. В общем, когда настало время покупать танки, пехотный и крейсерский, на роль второго выбрали самый быстроходный танк своего времени, способный за один час укатить хоть на 72 км (такая скорость была достигнута на шоссе танком БТ-5 на колёсном ходу). То был танк конструкции Дж. Кристи. Как вам нетрудно догадаться, эта машина была отнюдь не современнее «Виккерса 6-тонного», просто предназначалась она для решения других оперативных и тактических задач; закуплены же образцы были в одном и том же году – 1930-м.
Если смотреть на вещи объективно, то танкам способность передвигаться на катках совершенно не нужна, так как те неизбежно повредятся во время такого марш-броска; кроме того, гусеница, которую придётся применять на подобном движителе, неизбежно будет уступать нормальной по своей надёжности и проходимости. Правда, так сохраняется дорожное покрытие (проблема, к которой всегда можно подойти с другой стороны), сама гусеница (которые в 1930-х годах не отличались совершенством и надёжностью) и обеспечивается высокая скорость передвижения, что, впрочем, не всегда является жизненно важным и в большинстве случаев может быть обеспечено за счёт применения железнодорожных перевозок. Мнение же В. Суворова (В. Резуна) о том, что данная способность предоставляет как раз значительные преимущества в ходе маневренных операций на вражеской территории, совершенно не соответствует истине.
Согласитесь, а вдруг танкам БТ, прорвавшимся сквозь линию фронта, и выстроившимся в колонну, идущую, скажем, на Берлин, надо будет всё-таки съехать с шоссе и выстроиться в боевой порядок на пересечённой местности? Возможно ли это сделать, если они стоят на катках? В такие моменты мне в душу закрадываются сомнения в компетентности моего оппонента в чисто тактических вопросах.
Однако вернёмся в далёкий 1930 год. И. Сталин (И. Джугашвили) оказался как раз тем «гением», который не только купил танки конструкции Дж. Кристи, но и запустил их в массовую серию. Если отбросить в сторону способность лишаться гусениц, далеко не лучшую для бронированных гусеничных машин, танки данного типа обладали подвеской, обеспечивавшей им повышенную проходимость. Подвеска Дж. Кристи, впрочем, была сложной, снижала бронестойкость бортов корпуса и уменьшала размеры боевого отделения. Тем не менее, её применяли в Великобритании, на целом ряде танков периода Второй мировой войны, и в СССР – на танках серии БТ и на танке Т-34. Вместе с тем преимущество торсионной подвески было очевидным; её пытались установить уже на Т-34-85, однако по ряду причин пришлось отложить введение этого конструктивного новшества до появления Т-44. Вместе с тем советские лёгкие танки конструкции Н. Астрова (Т-40, Т-60, Т-70), а также Т-50 конструкции С. Гинзбурга, как и тяжёлые танки серии КВ – все они изначально оснащались торсионной подвеской. Утверждение В. Суворова (В. Резуна) о том, что подвеска Кристи будто бы являлась «самой распространённой» в мировом танкостроении к концу ХХ века, является грубой ошибкой – и мне придётся его поправить: в СССР, как и в странах НАТО, отдавали предпочтение торсионной. Впрочем, единственное исключение в этом списке есть: израильский танк «Меркава».
Тут же нужно сказать, что немецкие танки, начиная с поздних модификаций Pz.Kpfw.II, оснащались торсионной подвеской. Исключение, как ни странно, составил самый массовый, Pz.Kpfw.IV, на котором, по настоянию фирмы-производителя «Крупп», применили рессорную подвеску. Заказчик, несмотря на недовольство, смирился с данным решением, так как его поджимали сроки, и танк так и пошёл в серию.
Если же вернуться к танкам серии БТ, то ещё одним их конструктивным отличием было отсутствие карданного вала в машинном отделении, который передавал бы усилие двигателя на передние ведущие катки/колёса. В. Суворов (В. Резун) делает на этом конструктивном решении особый упор, убеждая нас в том, что так была разрушена магия «заколдованных кругов» (цитата), увеличивавших размеры и вес танка. Да, действительно, танки серии БТ весили относительно немного: 11,05 т (БТ-2), 11,5 т (БТ-5) и 13,9 т (БТ-7). Они также обладали выдающимися скоростными качествами, которые обеспечивались применением авиационного двигателя мощностью 400 л.с. Можно только представить себе, какое впечатление эти танки производили на ходовых испытаниях!
Вообще, ходовая часть, как нетрудно догадаться, у танков БТ была весьма проблемной. Отсутствие передачи на передние катки, которая применялась на Т-26, да и вообще на всех танках в мире, делала ведущими задние катки, что резко снижало проходимость танка. Компенсировать это приходилось завышенной мощностью двигателя. Ну, и что, спросят некоторые? Да авиационный двигатель и не такое потянет! А вот и не потянет – нет охлаждения набегающим потоком холодного воздуха, который наблюдается на больших высотах. В машинном отделении танка всегда душно и жарко, и двигатели «быстроходных танков» быстро перегревались, даже самовозгорались. Так Г. Жуков по итогам боёв на Халхин-Голе о них и отозвался: «слишком огнеопасны». В 1941 г. немцы окрестили БТ-7 «Микки-Маусом», – советские танкисты, опасаясь сгореть заживо, предпочитали идти в бой с открытыми вертикально люками, что придавало боевой машине заметное сходство с этим мультипликационным персонажем.

