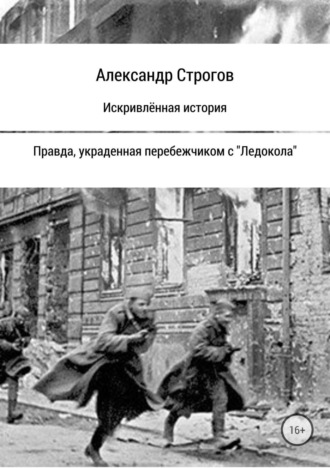
Искривлённая история
Войска немецкой группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт) действительно казались неудержимыми. Они одержали победу в танковом сражении в районе Ровно, Дубно и Луцка (23 – 30 июня 1941 г.), а затем, согласно директиве ОКВ №33 от 18 июля, перешли в наступление с целью окружения уманской группировки РККА (6-я и 12-я армии, а также части и соединения 26-й и 18-й армий). Бои, закончившиеся 10 августа, привели к окружению и практически полному уничтожению почти 158-тысячной группировки (из которых 18, 5 тыс. чел. погибло, 110, 4 тыс. чел. попало в плен, а также до 15 тыс. чел. пробились из кольца окружения или остались вне его, в то время как остальные рассеялись или пропали без вести).
Приблизившись к Киеву (ещё 7 июля), немецкие войска столкнулись с ожесточённым сопротивлением войск Юго-Западного фронта, насчитывавших 627 тыс. чел. и постоянно получавших подкрепления. Опираясь на укрепления Летичевского, Коростенского, Новоград-Волынского и Киевского укреплённых районов, генерал-полковник М. Кирпонос рассчитывал отсидеться в их железобетонных ДОТах. Как и в случае с попытками сдержать немцев встречными атаками танковых дивизий, из этой затеи ничего не получилось, несмотря на то, что результаты ряда частных боёв выглядели вполне обнадёживающими. Считаю необходимым повториться: наличие этих УРов сыграло советскому командованию дурную службу, так как вынудило его цепляться за данную фортификационную полосу вместо того, чтобы отступить за Днепр, на куда более выгодные для обороны позиции.
Генерал-полковник М. Кирпонос имел опыт командования 70-й стрелковой дивизией во время Зимней войны, за что ему было присвоено звание Героя СССР. Вероятно, в период боевых действий на Выборгском направлении у него сформировалась завышенная оценка роли долговременных огневых сооружений в современной войне, что повлияло на его решения в ходе Киевской операции (7 июля – 26 сентября 1941 г.). В любом случае, он очень быстро взлетел вверх, и едва ли был готов к управлению настолько крупной и сложной структурой, которую представлял из себя Юго-Западный фронт. Конечно, назначение, сделанное при участии И. Сталина (И. Джугашвили), как раз учитывало имевшийся у М. Кирпоноса опыт боёв на Карельском перешейке, а также наличие в КОВО ряда укреплённых районов. Всё это имело весьма трагические последствия.
Ситуация, сложившаяся вокруг Киева, тревожила советское командование. Начальник Генерального штаба генерал армии Г. Жуков 29 июля, когда стало очевидно, что окружения под Уманью не избежать, сам позвонил И. Сталину (И. Джугашвили) и попросил о встрече. Тот немедленно удовлетворил его просьбу; при разговоре присутствовал и принимал в нём самое активное заместитель наркома обороны армейский комиссар 1-го ранга (аналог звания командарма 1-го ранга)79 Л. Мехлис.
Это был дурной знак для Г. Жукова: Л. Мехлис, типичный «пламенный комиссар», был известен своей привычкой в каждой фразе собеседника искать свидетельство его сотрудничества с иностранной разведкой и никогда не сделал ни одного дельного, конструктивного предложения. Приблизительно в таком ключе проходил и этот разговор, стоивший Г. Жукову должности начальника Генерального штаба.
По свидетельству Г. Жукова, он настаивал на необходимости усиления Центрального фронта на участке, где немцы могут прорывать его оборону и выйти в тыл Юго-Западному фронту. Киев же Г. Жуков предлагал сдать. Это было более чем рациональное решение, однако И. Сталин (И. Джугашвили), опираясь на поддержку Л. Мехлиса и члена Главного Военного Совета РККА Г. Маленкова, предложение это отклонил. Г. Жуков был немедленно смещён с занимаемой должности со словами, сказанными с сильным грузинским акцентом: «Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся…». Генеральный штаб вновь возглавил маршал Б. Шапошников, автор книги «Мозг армии».
Б. Шапошников рядом исследователей (ну, вы знаете, о ком я сейчас) именуется «царским полковником», что в большой степени не соответствует истине. Он вступил в Первую мировую войну в звании подполковника и провёл её на штабных должностях, из наград удостоившись лишь Высочайшего благоволения – личной благодарности царя, даже официально дававшей предпочтения при выслуге лет. Звание полковника он получил уже в сентябре 1917 г., при А. Керенском, одновременно с назначением на должность командира 16-го гренадёрского Мингрельского полка, в котором, кстати, проходил службу и будущий сталинский любимец, кавалер ордена Ленина писатель М. Зощенко. И. Сталин (И. Джугашвили), сам будучи грузином, не мог не быть зависимым от наиболее родовитых грузинских фамилий, чьи представители служили в этом полку, несмотря на острые классовые противоречия.
Как бы то ни было, но Б. Шапошников удостоился и благоволения вождя – и, нигде не спотыкаясь, незаметно взобрался на самую верхушку командной иерархии РККА. Было бы весьма серьёзным преувеличением (а к таковым, кстати, склонен один бывший офицер ГРУ) называть маршала Б. Шапошникова интеллектуалом и создателем военной доктрины РККА. Это был всего лишь образованный, по меркам России, штабист среднего звена, при коммунистах ставший редкой «белой вороной». На фоне К. Ворошилова, С. Будённого, М. Тухачевского он действительно производил то впечатление, на которое рассчитывал, но не более того. Однако я полагаю, что именно он стал тем, кто, как минимум, повлиял, а вероятнее всего, и создал концепцию, которую можно назвать «сталинским планом войны».
План этот включал создание угрозы на южном и юго-западном направлениях – с целью принудить немцев раздробить их танковые силы. Затем, по мере продвижения немцев к Днепру, где те неминуемо должны были остановиться у линии УРов, возникала необычная стратегическая ситуация: три немецких танковых группы из четырёх ушли далеко на восток, в то время как 1-я (Э. фон Клейст) топчется у ворот Киева.
В этих обстоятельствах Г. Жуков, требовавший оставить Киев, но спасти войска от угрожающего им окружения, был немедленно смещён. Какого же взгляда придерживался сменивший его маршал Б. Шапошников? Совершенно противоположного! Ни за что не сдавать Киев! Как ни странно, ни один из них не был расстрелян, хотя оба полководца отстаивали диаметрально противоположные взгляды на вопросы, цена которых была весьма высока. Окружение и гибель угрожали не только сотням тысяч красноармейцев и краскомов, но и всему советскому строю. Как ни странно, в тех обстоятельствах можно было спасти только одно из двух.
Для тех, кто играет в шахматы (а И. Сталин (И. Джугашвили) был известным поклонником этого вида спорта), термин «жертва пешки» или «жертва фигуры» является достаточно привычным. Стратеги, ведущие войну – те же шахматисты, эта игра и создавалась для обучения будущих офицеров, и они отлично понимают, что всем фигурам не суждено дожить до конца партии. Какие-то из них неизбежно собьёт противник, если же игрок обладает высоким мастерством – именно высоким, даже исключительным – он пойдёт на жертву, пусть и крупной фигуры, чтобы в конечном счёте провести выигрышную комбинацию и объявить мат вражескому королю. Шахматы – игра, пришедшая с Востока, и И. Сталин (И. Джугашвили), сам обладавший восточным складом мышления, любил её утончённое коварство. Он с большим удовольствием переносил принципы игры в шахматы на свои стратегические замыслы, не исключая и военных. Теперь вы понимаете, почему он смеялся над Г. Жуковым, требовавшим сдать Киев, и пенял ему словами, что и без Ленина обошлись, не то что без некоторых? В его понимании, Г. Жуков был сопливый недотёпа, не видевший угрозе Москве, которую всеми силами нужно было отвратить, даже ценой падения Киева и гибели Юго-Западного фронта. Пройдёт несколько месяцев, прежде чем немцы соберутся с силами для повторного удара по Москве, фактически, учитывая поступление новейших Т-34 в войска, целый год, ведь им придётся перевооружить свои Pz.Kpfw.IV длинноствольными 75 –мм пушками, способными бороться с советским оппонентом. За этот год изменится ещё многое, и видимое преимущество А. Гитлера, которое сейчас кажется хорошим заделом для войны на истощение, быстро сойдёт на нет в результате широких поставок со стороны западных союзников и, в конце концов, их неминуемого вступления в войну, даже высадки их войск в Европе.
Повторюсь: для шахмат – дело обычное. Игроки-любители, заседающие на лавочках в уютных сквериках, подтвердят: они нередко сталкивались с ситуацией, когда вдруг обнаруживали угрозу собственному королю, чреватую матом в один-два хода, и, пока её не рассмотрел оппонент, начинали отвлекать его внимание разными трюками, а затем прибегали и к жертвам пешек и даже фигур. Конечно, в действиях шахматистов высокого класса подобные ситуации являются, скорее, поводом для злословия и источником появления анекдотов, нежели действительностью.
Соображения И. Сталина (И. Джугашвили) относительно судьбы Киева и Юго-Западного фронта не повсюду сталкивались с непониманием. Б. Шапошников резко противился любым попыткам оставить Киев и не давал формального разрешения на отвод войск вплоть до момента, когда это уже утратило всякий смысл. Впрочем, то, что Киев обречён, и Б. Шапошников, и И. Сталин (И. Джугашвили) понимали очень хорошо: в тот же день, 29 июля, когда состоялся приведённый выше разговор в кабинете вождя, началась эвакуация самого ценного, что было, по их мнению, в городе Киев – завода «Арсенал». Чтобы вывезти всё оборудование и 2500 сотрудников, потребовалось 36 эшелонов – всего 1100 вагонов! Процесс эвакуации промышленных мощностей затянулся до 14 августа – вот как вождь верил в то, что Киев устоит! Если бы действительно верил, то наверное, не стал бы поспешно сворачивать производство и срывать графики поставок в действующую армию, согласитесь.
Тем не менее, И. Сталин (И. Джугашвили), поддерживаемый Б. Шапошниковым и целой группой товарищей, продолжал бросать окружающим пыль в глаза: Киев ни за что нельзя сдавать! Этой точке зрения, выглядевшей всё более безумно и даже подозрительно, учитывая развитие событий, возникла оппозиция, объединившая группу высокопоставленных военных. Кроме Г. Жукова, попавшего в опалу и пошедшего на понижение, за отвод войск выступал будущий глава Генерального штаба будущий маршал СССР А. Василевский, занимавший в тот момент должность начальника оперативного управления, командующий войсками Юго-Западного направления маршал С. Будённый, а также начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор М. Тупиков. И. Сталин (И. Джугашвили) и Б. Шапошников оставались непреклонными: Киев не сдавать! Здесь важно привести пример поведения командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника М. Кирпоноса. С одной стороны, позволив генерал-майору М. Тупикову ходатайствовать об отступлении, он понимал необходимость подобного манёвра; с другой, в ходе телефонного разговора с И. Сталиным (И. Джугашвили) на эту тему, чувствуя недовольство вождя, генерал-полковник М. Кирпонос объявил генерал-майора М. Тупикова паникёром и пообещал отстоять Киев. Теперь вы понимаете, насколько строгим был кадровый отбор в период правления И. Сталина (И. Джугашвили), и каких людей выносил он на вершину власти!
Нужно сказать, что Вермахт также не торопился отвлекаться на действия на второстепенном, киевском, направлении. 7 августа генерал-полковник Ф. Гальдер имел разговор с генерал-полковником А. Йодлем по данному вопросу. Он прямо спросил: ставит ли Вермахт перед собой целью разгром вооружённых сил противника либо экономические (захват Украины и Кавказа). А. Йодль ответил: «Фюрер полагает, что обе цели могут быть достигнуты одновременно». Несомненно, речь шла о повороте 2-й танковой группы на юг, в тыл Юго-Западному фронту. Ф. Гальдеру такой подход не понравился, и 18 августа он всё же представил А. Гитлеру план директивы группе армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) о наступлении на Москву всеми силами, включая и 2-ю танковую группу. А. Гитлер гневно отверг этот проект, и 21 августа подписал директиву о повороте войск группы армий «Центр» на юг, с целью захвата Киева.
Ф. Гальдер, не имея более сил спорить с А. Гитлером, лично доставил эту бумагу по назначению. Прибыв к Ф. фон Боку, он так всё и объяснил: тылы Юго-Западного фронта обнажены, как говорится, бей – не хочу! Вы удивитесь, но и командующий 2-й танковой группой генерал-полковник Г. Гудериан тоже поначалу не захотел. Взбешённый, он вылетел в ставку фюрера под Растенбургом; А. Гитлер, владыка «Волчьего логова», спокойно выслушал все аргументы Г. Гудериана, а затем разразился собственной речью, в которой особо упирал на угрозу, исходящую от Крыма, этого «авианосца Советского Союза в его борьбе против румынской нефти». Напоследок фюрер добавил: «Мои генералы ничего не понимают в военной экономике».
24 августа Г. Гудериан отбыл обратно, имея приказ, начиная со следующего дня, перейти в наступление на юг. Операция эта, несмотря на то, что немецким моторизованным дивизиям предстояло преодолеть 450 километров, подчас оставляя свои фланги и тылы оголёнными, прошла крайне успешно. 15 сентября кольцо окружения замкнулось у Лохвицы; к 24 сентября в плен сдалось 665 тыс. чел. Немецкие войска понесли большие эксплуатационные и боевые потери в ходе этой операции: например, 3-я танковая дивизия (В. Модель), действовавшая на острие удара, 4 сентября насчитывала лишь 41 боеспособный танк (в целом по 2-й танковой группе – 190 танков), численность которых к 15 сентября снизилась до 10. Несмотря на большую протяжённость немецких порядков и их очевидную слабость, советской стороне, видимо, находившейся в ещё худшем положении, разорвать окружение не удалось. И М. Кирпонос, и М. Тупиков, не считая целого ряда других генералов, погибли при попытке вырваться из «котла».
Итак, в результате реализации сталинской стратегии, принуждавшей противника действовать рассредоточенно, уделяя значительное внимание южному направлению, наступление на Москву, которое вполне могло принести Вермахту победу, оказалось сорванным. Его возобновление в ходе операции «Тайфун» уже не имело шансов на успех и, несмотря на вяземскую катастрофу, обошедшуюся в более чем 1 млн. чел. безвозвратных потерь, включая 680 тыс. чел. пленными, не дало позитивного результата. Столицу удалось отстоять. В разгар битвы за Москву Япония напала на США, и А. Гитлер, рассчитывавший на помощь японцев в борьбе с СССР (которой те не оказали), сам объявил войну США. Стратегия И. Сталина (И. Джугашвили) восторжествовала.
А была ли она, спросите вы меня? Может, просто имела место цепь ошибок, приведшая к тяжёлой, почти гибельной ситуации, но потом всё как-то по чуть-чуть пришло в норму?
Глава 48. Минск – несостоявшийся «город-крепость»
Сегодня даже самые радикальные назвать радикальными и манеры нельзя самая тотальная война недостаточно тотальна
Й. Геббельс
Что ж, есть у меня ещё один свидетель, правда, покойный. Это генерал армии Д. Павлов, арестованный 2 июля 1941 г., расстрелянный 22 июля 1941 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, 21 марта 1947 г. указом Президиума Верховного Совета СССР лишённый звания Героя Советского Союза и всех правительственных наград. Впрочем, не так он был плох, этот Д. Павлов: 31 июля 1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговор от 22 июля 1941 г. отменён по вновь открывшимся обстоятельствам, и Д. Павлов восстановлен посмертно в воинском звании, а указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1965 г. восстановил его в звании Героя СССР и в правах на все награды.
Кроме известной колхозникам всего мира фразы о законе, который ничем не лучше дышла, здесь нужно добавить вот ещё что. В 1941 г. Д. Павлова сняли с должности, арестовали, судили и расстреляли не просто так, а за конкретные воинские преступления, оставить которые безнаказанными ни один вождь не мог. Приказ наркома обороны (подписано: «И. Сталин») №0250 от 28 июля 1941 г. о расстреле целой группы генералов Западного фронта (Д. Павлова, В. Климовских, А. Григорьева, А. Коробкова) содержит следующее обвинение: «нарушили военную присягу, обесчестили высокое звание воина Красной Армии, забыли свой долг перед Родиной, своей трусостью и паникерством, преступным бездействием, развалом управления войсками, сдачей оружия и складов противнику, допущением самовольного оставления боевых позиций частями нанесли серьёзный ущерб войскам Западного фронта».
Может, выдумка? И. Сталин (И. Джугашвили) наврал, как всегда, да и рад хоть кого-нибудь расстрелять? Не совсем. Дело в том, что 27 июня 1941 г. тогдашний нарком обороны маршал С. Тимошенко отдал приказ: Минск не сдавать ни в коем случае, даже если город будет окружён. Это очень любопытное решение, имеющее аналог в дальнейшей истории войны: к подобным мерам неоднократно прибегали немцы, оказавшись в безвыходной ситуации. Осаждённый город получал статус «города-крепости» и сражался до последнего патрона, несмотря ни на что, в результате чего наступление противника замедлялось, и он нёс значительные потери. Так обороняли Сталинград; затем, по мере продвижения советских войск на запад, обобщения накопленного опыта и осуществления всех необходимых мобилизационных мероприятий, этот список пополнили Будапешт и Берлин.
В случае с Минском нетрудно заметить попытку воплотить в действительность тот же план, однако в действительности всё получилось по-другому: уже на следующий день, 28 июня 1941 г., немецкие войска ворвались в Минск, а ответственный за его оборону, командующий 13-й армией генерал-лейтенант П. Филатов отдал приказ вывести войска из города. Приказ этот, очевидно, исходил от Д. Павлова – либо был им одобрен.
Таким образом, Д. Павлов действительно совершил инкриминируемое ему деяние, отказавшись вести уличные бои в Минске с максимальным привлечением к участию в них гражданских лиц. П. Филатов, попав под обстрел немецкой авиации, скончался от полученных ран в московском госпитале 14 июля, когда его товарищей судили; командир 2-го стрелкового корпуса, который должен был оборонять город, генерал-майор А. Ермаков, под суд не попал лишь ввиду личной храбрости, проявленной в бою – тем не менее, его осудили на 5 лет ещё в том же году, формально – за другую операцию. Впрочем, фактически наказания А. Ермаков не отбывал – практически тотчас же после вынесения приговора его восстановили в звании и вернули награды. Очевидно, речь идёт лишь о тени сталинского гнева, истребившего в июле 1941 г. руководство Западного фронта, некоем соблюдении неписаных законов и обязательств.
Вы спросите меня: каким образом всё это связано с концепцией «жертвы фигуры», которую я предложил. Это дополнительное доказательство того, что И. Сталин (И. Джугашвили) людей не жалел, не щадил и требовал от них умирать в любых, необходимых ему, количествах. Ну, как вы думаете, если руководство требует от своих мирных граждан гибнуть под пулями, бомбами и снарядами, ложиться под гусеницы танков, способно ли оно?.. Д. Павлов же в тех обстоятельствах показал себя настоящим мужиком, решившись противостоять воле вождя, и его поведение заслуживает куда более высокой оценки, чем принято среди историков. Как нетрудно догадаться, такое поведение как раз и стало причиной гибели Д. Павлова и его ближайших соратников.
Итак, есть доказательства того, что И. Сталин (И. Джугашвили») изначально понимал слабость собственных вооружённых сил и, не имея чёткого плана наступательной операции против Германии, создал видимость наличия такового, сознательно подставив свою армию под удар. Среди них: а) отсутствие карт и планов операций в войсках; б) развёртывание Второго Стратегического эшелона в совершенно очевидном расчёте на неминуемое полное уничтожение Первого; в) попытка «подставить» войска Юго-Западного фронта, чтобы отвести угрозу от Москвы в 1941 г. Подобные действия дали И. Сталину (И. Джугашвили) возможность привлечь сочувствие мировой общественности и получить военную помощь от США и Великобритании, в которой он так нуждался. Кроме того, он смог затянуть кампанию, расстроив тем самым планы противника, и придал войне затяжной характер, выгодный для него и его союзников.
Это могут быть не очень приятные выводы для тех, кто верит в величие и доброту жесточайшего из тиранов. Тем не менее, они дают ответ на те вопросы, которые возникают у всех исследователей данного вопроса и у просто любителей истории, зажатых, как меж двух огней, между двумя полярными концепциями. Одна из них, созданная в русле официальной политики КПСС, объявляет СССР невинной жертвой нацистского вторжения, при этом глава СССР И. Сталин (И. Джугашвили) почему-то подвергается резкой критике за многочисленные преступления тоталитарного режима, которые отнюдь не свидетельствуют о его невинности. Другая, созданная бывшим членом КПСС, бывшим офицером ГРУ В. Суворовым (В. Резуном) утверждает, что, напротив, это Советский Союз планировал напасть на Германию, просто «не успел», а И. Сталин (И. Джугашвили) всегда был и останется величайшим из вождей, особенно благодаря совершённым им преступлениям.
Как нетрудно заметить, обе версии происходят из одного источника – и обладают более чем заметными «узкими местами», к тому же делят действительность на «две возможности» (это одна из любимых фраз А. Гитлера), в то время как истина не имеет с этими пропагандистскими штампами ничего общего. Полагаю, я сделал достаточно, чтобы восстановить справедливость.
Тем же, кто не согласен со мной, предлагаю и далее верить членам КПСС, действительным и беглым.
Глава 49. Тысячи танков против танковых дивизий
Танки при их правильном использовании являются в настоящее время самым лучшим наступательным средством при проведении наземных операций
Г. Гудериан
В. Суворов (В. Резун) много пишет о бесчисленных советских танковых полчищах, о многотысячных эскадрах боевых самолётов, о миллионах парашютистов, готовившихся к «освободительному походу» в Европу. Он пишет об этом так много, а его книги издаются так часто и такими огромными тиражами (совсем как мемуары советских полководцев в былые времена), что в интеллигентных кругах считается даже неприличным не знать, сколько механизированных корпусов (1031 танк по штату) было в РККА на момент начала вторжения. Одновременно В. Суворов предоставляет сведения о многократном численном и качественном превосходстве РККА над Вермахтом в танках, этом ключевом для войны на суше виде вооружения. По его словам, только упреждающий удар, едва ли не чистое везение, помогло Вермахту добиться его исключительных успехов в 1941 г., вообще же столкновение этих двух крупнейших армий Европы неминуемо должно было закончиться блистательной победой советской стороны, как, в конце концов, и произошло. Сама только цифра (24 тысячи), многократно больше, чем в армиях всех остальных стран мира, вместе взятых, способна поразить воображение. Есть ли шансы у этого мира устоять перед бронированными полчищами И. Сталина (И. Джугашвили)?
Этот вопрос является очень правильным и очень хорошим, дорогие мои читатели. Нужно сказать, что сама характеристика этой цифры («многократно») свидетельствует не в её пользу. Зачем так много, к тому же ещё до начала боевых действий? Ведь танки будут производиться и в ходе войны, не нужно так перегружать промышленность производством машин, которые, к тому же быстро устаревают. Очевидно, руководство СССР не очень-то верило в то, что имеющиеся танки, неважно в каких количествах, дают преимущество хотя бы над основным противником, над гитлеровской Германией, поэтому постоянно форсировало производство.
В 1941 г., опять-таки не веря в способность собственной армии устоять перед натиском немецких войск, И, Сталин (И. Джугашвили) начал сразу разворачивать два стратегических эшелона. С точки зрения ортодоксальной военной теории, это нонсенс. Войска разворачиваются в один эшелон, за которым размещаются стратегические резервы, которые перебрасываются, по мере необходимости, на тот участок фронта, где в них возникла наиболее острая нужда. Вытянув войска в две линии, И. Сталин (И. Джугашвили), С. Тимошенко и Г. Жуков сами лишали себя такой возможности, приковывая резервы ко Второму Стратегическому эшелону, в котором многие дивизии и корпуса ещё предстояло доукомплектовать кадрами и техникой, в то время как Первый обрекали на снабжение по остаточному принципу. Очевидно, по их мнению, тот был заведомо обречён на быструю гибель в первых боях.
Подобная схема развёртывания, мягко говоря, очень необычна. Впрочем, она имеет очень много общего с эшелонированной обороной полевых армий периода Первой мировой войны – да и последующих войн тоже. Более того, в своей работе «Новые формы борьбы» (1940) комбриг Г. Иссерсон, анализируя построение польских войск в кампании 1939 г., вслед за американскими специалистами, также указал на наличие трёх стратегических эшелонов – каждый из них должен был обороняться на относительно изолированном рубеже; такая пассивно-выжидательная и, мягко говоря, сомнительная стратегия была принята польским правительством, весьма рассчитывавшим на решительное выступление англо-французской группировки на Западном фронте (которое не состоялось).

