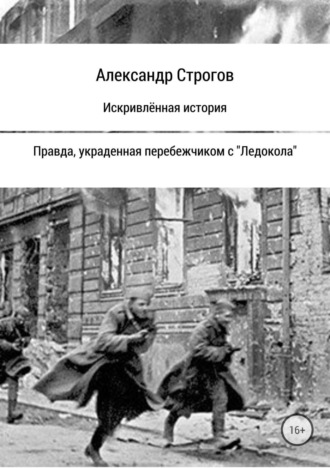
Искривлённая история
В принципе, история эта всем хорошо известна, хотя в ней до сих пор имеется немало «тёмных пятен», которые выставляют американского президента далеко не в лучшем свете. Так, о готовящемся нападении на Перл-Харбор было отлично известно советской разведке: например, прославленный Р. Зорге за два месяца до нападения сообщил, что оно состоится в течение 60 дней. Информация эта была доведена до сведения американской стороны. Более того, и немецкий посол в Китае Г. Томсен, получив информацию о готовящемся нападении, в середине ноября передал её американскому бизнесмену М. Ловеллу, а тот, в свою очередь – У. Доновану, высокопоставленному сотруднику внешней разведки США, человеку, которому она во многом обязана своим появлением. Такие вот были отношения между партнёрами по Оси!
26 ноября, менее чем за две недели до нападения, госсекретарь (министр иностранных дел) США К. Халл вручил японскому послу ноту, в которой содержались требования вывести войска с территории Индокитая и Китая (кроме Маньчжурии), а также разорвать Тройственный пакт. Нота эта была расценена премьер-министром Японии Х. Тодзио как ультиматум. Следует добавить, что в тот же день японский флот покинул свою базу на острове Итуруп (Курилы) и взял курс на Гавайи. Окончательное решение о том, быть ли войне, оставалось за императором Хирохито, который долгое время колебался. Лишь 1 декабря, когда все члены правительства и его советники высказались за необходимость начать военные действия против США, он санкционировал операцию.
Проще всего было бы обвинить Ф. Рузвельта в отсутствии элементарной прозорливости: ослеплённый величием США, он, дескать, не сделал выводов из нападения Германии на СССР, а его аналитики не изучили нападение британской палубной авиации на Таранто в 1940 г., когда было потоплено 3 линкора (два из которых, «Литторио» и «Кайо Дуилио» позже подняли, отремонтировали и ввели в строй). В пользу подобного предположения, являющегося, кстати, официальной версией событий, говорит и тот факт, что в Перл-Харборе, несмотря на объявленный Японии ультиматум, проигнорировали выход соединения Т. Нагумо в море. 8 из 9 линкоров Тихоокеанского флота находились в гавани, причём 7 стояли в так называемом «линкорном ряду» – пришвартованные у длинного ряда бетонных свай, они представляли собой отличные мишени, не способные себя защитить даже маневром (т. е. бегством).
На самом деле всё было, конечно, не так. Артиллерийский огонь артиллерии крупных калибров уже перестал быть основным фактором поражения в боях крупных флотов. Отныне палубная авиация, имевшая существенно больший радиус действия, доминировала в океанах. Во всех последовавших затем в течение почти 4 лет боях и сражениях на Тихом океане американские линкоры представляли собой не более чем эффектное, но совершенно бесполезное дополнение к авианосным группам. Единственным способом для них поучаствовать в бою стали десантные операции, в ходе которых они использовались как плавучие батареи, прикрывая огнём своих крупнокалиберных орудий высадку морских пехотинцев.
Конечно, возникает вопрос: куда же делись американские авианосцы? А их отвели в море, на учения. Как говорится, от греха подальше. А линкоры, пусть и бесполезные, поставили у причальной стенки, где, в силу относительно небольшой глубины, их можно бы было нетрудно поднять в случае затопления. Согласитесь, если бы один из линкоров затонул на рейде, он мог бы весьма и весьма затруднить судоходство.
Ф. Рузвельта и его администрацию, добившуюся таким образом желаемого – начала войны, – неоднократно упрекали в сознательной организации событий «позорного дня», однако доказать так ничего и не смогли. Новейшая история США содержит ещё один пример совершенно потрясающей халатности – события 11 сентября 2001 г., ставшие поводом для американской венной агрессии в Ираке и Афганистане. В более ранний период также нетрудно найти весьма схожее трагическое происшествие – гибель броненосного крейсера «Мэн» на рейде Гаваны в 1898 г. Взрыв, подлинные причины которого до сих пор так и не установлены, прозвучал в разгар антииспанских народных выступлений на Кубе и послужил поводом для начала войны, в результате которой владения испанской колониальной империи перешли в «зону влияния» американского капитала.
Что ж, глядя, как подобные события происходят за рубежом, в их реальность верится куда охотнее. Правда, пойти на то, чтобы отправить на заведомую смерть миллионы красноармейцев и краскомов, как то сделал в 1941 г. И. Сталин (И. Джугашвили)… Да, советский диктатор был далеко не американцем, и всегда обладал непреодолимой тягой к титаническим масштабам и эпическим деяниям.
Хотите – верьте, хотите – нет. Против такой версии, несомненно, будут возражать. Например, очень легко выдвинуть против неё такой аргумент: сын И. Сталина (И. Джугашвили), Я. Джугашвили, попал в окружение в первые дни войны, был пленён и погиб в концлагере. Разве властитель, контролировавший в СССР всё, мог бы допустить такое? Конечно, мог.
Яков Джугашвили родился в первом браке И. Сталина (И. Джугашвили) с Е. Сванидзе. Когда ему было 8 месяцев, его мать скончалась от брюшного тифа, и первые 14 лет своей жизни он воспитывался тёткой. Отца же Я. Джугашвили впервые увидел в 1921 г., когда приехал в Москву. И. Сталин (И. Джугашвили) к тому времени был женат вторым браком на Н. Аллилуевой, которая родила ему двух детей – сына Василия (Сталина) и дочь Светлану (Аллилуеву). Яков, в отличие от Василия, который был повсюду свой, в московском обществе не прижился. Откровенно ненавидел его и И. Сталин (И. Джугашвили), который успел породниться с московским партийным истеблишментом и рассматривал Якова как неудобное и даже вредное напоминание о нищете и безграмотности, из которых он некогда вырвался.
И. Сталин (И. Джугашвили) обожал издеваться над окружающими: например, А. Поскрёбышеву он однажды обмотал пальцы рук листами бумаги, сделав своеобразные «конусы», и затем поджёг. А. Поскрёбышев, по-рабски верный Хозяину, катался по полу, стеная от боли, но не посмел сорвать причинявшие ему боль «конусы». Н. Хрущёв, будущий Первый секретарь ЦК КПСС был излюбленным объектом для шуток самого низкого пошиба на сталинских застольях: на сиденье его кресла неизменно подкладывали торт, когда он усаживался за стол, совсем как в фильмах с Ч. Чаплиным.
Н. Аллилуеву И. Сталин (И. Джугашвили) довёл до самоубийства – она застрелилась в 1932 г. Лично мне данный эпизод кажется сомнительным, так как «вальтер», из которого был сделан выстрел, принадлежал И. Сталину (И. Джугашвили), причём стреляли в сердце; к тому же статистика свидетельствует: женщины склонны к суициду в гораздо меньшей степени (в 4 раза), нежели мужчины. Событию предшествовала бурная ссора на квартире у К. Ворошилова, и не исключено, что И. Сталин (И. Джугашвили) сам, собственноручно, убил супругу в припадке гнева, а затем сфабриковал доказательства её «самоубийства». В случае же с Яковом, который в 1925 г. женился на 16-летней однокласснице – И. Сталин (И. Джугашвили) был против этого брака, – к тому же дочери священника, то непрестанные нападки и придирки возымели своё действие. Я. Джугашвили осуществил неудачную попытку самоубийства, однако пуля прошла навылет, и он выжил. Бесподобно приветствовал отец своего сына при встрече: «Ха, не попал!».
Едва ли подобные фразы нуждаются в комментариях. Правда, И. Сталин (И. Джугашвили) не был лишён отцовских чувств: его сына так и не репрессировали, хотя тому пришлось переехать в Ленинград, начать трудовой путь помощником дежурного электромонтёра, пережить смерть дочери и распад брака… Наконец, он закончил Теплофизический институт и заново женился – при посредстве Аллилуевых. Я. Джугашвили также закончил вечернее отделение Артиллерийской академии РККА, в мае 1941 г. вступил в ВКП(б).
Всё же, вопреки некоторым сведениям, Я. Джугашвили встретил начало войны не на границе, а в Москве. 22 июня он, подобно многим командирам запаса, был отмобилизован и направлен в войска. Отец, как и положено, напутствовал его словами: «Иди и сражайся!».
7-му механизированному корпусу (генерал-майор В. Виноградов) 20-й армии (генерал-лейтенант П. Курочкин) Западного фронта, в котором старший лейтенант Я. Джугашвили занимал должность командира 6-й артиллерийской батареи в составе 14-го гаубичного артполка 14-й танковой дивизии, предстояло принять участие в т.н. Лепельском контрударе. Причины для беспокойства, несомненно, были: целый ряд корпусов Западного фронта подвергся такому разгрому, что, несмотря на очевидный факт их существования в «котлах», с ними, по свидетельству Г. Жукова, отсутствовала даже радиосвязь. Как нетрудно догадаться, принимались все необходимые меры: в «котлах» выбрасывались парашютисты с портативными радиостанциями, в то время как мехкорпуса, ревя тысячами танковых моторов, готовились нанести по врагу могучие удары, которые бы мигом смяли фашистов и отбросили бы их за пределы советской территории, а возможно, и дальше.
К тому времени силы РККА уже пыталась нанести контрудары на Юго-Западном фронте (в районе Ровно, Дубно и Луцка, 23 – 30 июня) и на том же Западном (в районе Бреста 23 июня и в районе Гродно, 24 – 25 июня), и во всех случаях советские войска постигла жестокая неудача. На сей раз Западный фронт, задействовав 5 армий, ударной силой которых выступали два мехкорпуса, нанося удары по сходящимся направлениям (на Лепель), должны были рассечь оборону противника на глубину до 140 км и выйти в тыл 3-й танковой группы (генерал-полковник Г. Гот).
Несмотря на обилие армий и корпусов, которым предстояло перейти в наступление 6 июля77, перспективы наспех спланированной операции выглядели безрадостными. Западный фронт лихорадило – за неделю здесь сменилось трое командующих: сперва вместо генерала армии Д. Павлова должность принял генерал-лейтенант А. Ерёменко, затем – маршал С. Тимошенко. Причина тому была более чем весомая: 28 июня немцы взяли Минск, в двух «котлах», Белостокском и Минском, находились сотни тысяч красноармейцев и краскомов, тысячи единиц бронетехники (в плен попало 324 тыс. чел., также было захвачено 3332 танка, 1809 орудий и др.).
Решение прорвать окружение, вызволить товарищей из беды и самим окружить крупную группировку войск противника было вполне в духе «маневренной войны» и отрабатывавшейся на всех предвоенных манёврах концепции «глубокой операции». Вместе с тем, если судить по результатам первых контрударов, наносившихся гораздо большими силами, легко было предположить, что и на этот раз РККА ожидает фиаско.
Немцы, несмотря на то, что группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) имела в своём составе 2-ю (генерал-полковник Г. Гудериан) и 3-ю (генерал-полковник Г. Гот) танковые группы (1700 танков на 22 июня 1941 г.), преимуществом в танках не обладали. 5-й и 7-й мехкорпуса, пребывавшие ещё в стадии формирования (оба корпуса имели в составе по две танковых дивизии, моторизованные же в операции участия не приняли), насчитывали более 1400 танков. По сравнению с полным штатом мехкорпуса, предусматривавшим наличие 1031 танка в каждом соединении, это, конечно, мало, особенно в случае с 7-м мк (507 танков в двух танковых дивизиях, не считая 7 танков в управлении корпуса), однако по сравнению с противником, задействовавшим против 5-го мк и 7-го мк только три танковых дивизии (7-ю, 17-ю и 12-ю, всего до 600 танков), это не так и плохо. Если учесть преимущество советской бронетехники в бронировании (особенно это касается новейших танков КВ и Т-34, численность которых достигало в обоих корпусах 47 и 49 единиц соответственно), вооружении и грамотной компоновке, которое, как нас уверяет В. Суворов (В. Резун), имело место, то шансы Западного фронта покарать захватчиков казались вполне реальными.
Основой броневого кулака 7-го мк были танки БТ-7 (194) и Т-26 (187); также имелось 24 КВ-1, 10 КВ-2, 29 Т-34, 70 огнемётных танков и 29 бронеавтомобилей БА-10 с 45-мм пушками. Это была впечатляющая, но плохо организованная армада. 6 – 7 июля 7-й мк безуспешно атаковал позиции противника, занявшего оборону вдоль р. Черногостница. Было задействовано 126 танков, из которых 74 противник подбил. В этот же день Я. Джугашвили был представлен к ордену Красного Знамени за якобы уничтожение им двух противотанковых орудий, двух артбатарей, одного пулемётного расчёта, пехотной роты и подавление огня одной артбатареи и одного миномётного взвода противника. Выдающиеся достижения для первого боя, не так ли? Что и говорить: сын самого И. Сталина (И. Джугашвили), он ещё с пелёнок впитал заветы отца о том, как железной рукой громить империалистического врага, не давая тому ни спуску, ни пощады. М-да… Не исключено, что на Я. Джугашвили записали все успехи 7-го мк, достигнутые 6 – 7 июля. Уже 9 июля, оказавшись под угрозой окружения и в значительной степени израсходовав бронетанковые резервы, советские мехкорпуса прекратили бесплодные атаки и начали отходить. Их потери составили 832 танка; ряд частей попал в окружение.
16 июля, при попытке прорваться из окружения, пропал старший лейтенант Я. Джугашвили. Как оказалось впоследствии, он, несмотря на строжайший запрет, приравнивавший сдачу в плен к измене Родине, совершил это воинское преступление, будучи в полном сознании. 22 июля был расстрелян генерал армии Д. Павлов, арестованный ещё накануне начала неудавшегося контрнаступления. Первый командующий Западным фронтом оказался тем «козлом отпущения», смерти которого жаждали все. Г. Жуков ненавидел его как соперника в борьбе за власть; И. Сталин (И. Джугашвили), наверняка, винил Д. Павлова в утрате сына, которого полюбил, лишь утратив. Ответственные органы же, проводившие арест, дознание, следствие, суд и расстрел… ну, должны же они как-то доказать свою полезность?
Что любопытно, И. Сталин (И. Джугашвили), долгое время не знавший о пленении сына, согласно подписанному им 16 августа 1941 г. собственноручно приказу №270, являлся членом семьи «злостного дезертира» и подлежал аресту. Органы, ответственные за обеспечение государственной безопасности, как нетрудно догадаться, в данном случае не проявили достаточной бдительности.
История Я. Джугашвили и 7-го мк показывает подлинную цену сталинской «готовности к войне», проявившейся в создании десятков и даже сотен дивизий, которые были неспособны причинить противнику заметный урон, несмотря на значительное численное превосходство, и которые массово сдавались в плен, несмотря на самые драконовские меры, включая расстрелы даже высших военачальников. Я давно интересовался этим феноменом и знаю ответы на ключевые вопросы, которыми вскоре поделюсь с моими читателями. Сейчас же, завершая тему, которую проще всего озаглавить словами «мог ли вождь?..», я хочу обратиться к ещё одному, очень важному, эпизоду начального периода войны.
Глава 47. Если нельзя выиграть, тогда почему бы не начать проигрывать?
Необходимо судить обо всём с учётом общегерманских интересов и требований. А это связано иногда и с самопожертвованием
Г. Гиммлер
Давайте предположим на минуту, что вы мне поверили. Представьте себе, что вы принимаете мою версию за истину. И. Сталин (И. Джугашвили), подписав рукой В. Молотова (В. Скрябина) договор о ненападении с Германией, воспользовался сложившимися обстоятельствами, чтобы восстановить территорию Российской империи в её прежних пределах, пока А. Гитлер занимается «собирательством» несправедливо отторгнутых, согласно Версальскому договору, немецких земель. Однако в случае с Финляндией его ожидал неприятный сюрприз, принудивший вождя мирового пролетариата отступиться от задуманного, пока фашисты и капиталисты не примирились и не обрушились на него сообща. Затем вождь развернул на границе с Германией крупные группировки войск, чтобы то ли устрашить её, то ли спровоцировать – неважно. Его целью было любой ценой избежать очного противостояния с А. Гитлером, заручиться для этого помощью Великобритании – и США. Ради этого он был готов даже пойти на немыслимые людские жертвы (в первый ли раз, в последний ли?), не исключая и сына от первой жены, которого, вслед за столичным бомондом, откровенно ненавидел.
Итак, цель И. Сталина (И. Джугашвили) достигнута: он стал жертвой фашистской агрессии, принёс на алтарь жизнь собственного сына78, ему симпатизируют во всём мире. Но что с того? Как выиграть войну, которая уже, фактически, проиграна?
Не всё так просто – война только начиналась. Немцы ввязались в эту войну, но они её ещё не выиграли. Они углубились на территорию противника на сотни километров, удалившись от собственных баз снабжения. Поставки подвижных дивизий, оторвавшихся от основной части войск, были сопряжены с большими трудностями, так как осуществлялись на значительные расстояния, причём зачастую по грунтовым дорогам самого скверного качества. Запыление приводило к ускоренному износу двигателей; значительное количество танков не могло двигаться дальше, так как возникла острая нужда в ремонте. Немцам хорошо знакома суть термина «кульминационная точка», так как он ими и сформулирован – это предел, за которым одна из сторон не может более поддерживать интенсивность боевых действий на прежнем уровне. Вермахт выдыхался, несмотря на относительно лёгкие победы, достигнутые в первые дни войны. В это же время театр военных действий всё более и более расширялся по протяжённости с севера на юг, вынуждая немецкое командование действовать в расходящихся направлениях. Припятские болота и леса Полесья, разделявшие театр на две относительно изолированных части – северную и южную, – изначально представлялись разработчикам плана вторжения в СССР тем препятствием, которое позволит сосредоточить основную массу танковых и моторизованных войск в Прибалтике и Белоруссии, с тем, чтобы быстро прорваться к Ленинграду и Москве и захватить их. Юго-западную часть СССР и дислоцированные там соединения можно бы было просто игнорировать. План ОКВ, именовавшийся в честь Фридриха II, тяготевшего к подобным асимметричным ударам, «Фриц», предусматривал как раз такие действия. В то же время параллельно свой план разрабатывали в ОКХ, где считалось необходимым создание двух ударных группировок (фактически, их было развёрнуто три, но танковые соединения действовали в двух секторах фронта). Последнее было как раз связано с более чем ощутимой угрозой румынской нефти, исходившей от СССР, что принудило разработчиков усилить южный фланг наступления одной танковой группой (армией).
ОКВ и ОКХ остро конкурировали, однако, несмотря на формально более высокое положение ОКВ, окончательное решение обычно зарождалось в недрах ОКХ, так как данная структура напрямую отвечала за реализацию стратегических замыслов. В конечном итоге, А. Гитлер предпочёл план ОКХ как более «надёжный»: он гарантировал защиту нефтепромыслам Румынии и сулил выход к богатым нефтяным месторождениям Баку. А. Гитлер любил заканчивать свои нередкие споры с военачальниками фразой: «…но мои генералы ничего не знают о нефти». Те самым он ясно давал понять, что снабжение войск горючим, военно-экономические вопросы гораздо важнее для него сиюминутной выгоды, которую сулят победы над вооружёнными силами противника. В данном случае получилось как раз наоборот, но об этом ниже.
Главным отличием двух планов было то, что «Фриц», разработанный ОКВ, предполагал захват Ленинграда и Москвы в течение уже первой кампании, которая, как в случае с Францией и другими государствами, вполне могла стать единственной. План ОКХ, согласно Ф. Гальдеру, был построен из расчёта на разделение кампании против СССР на две фазы: фазу разгрома вооружённых сил и фазу экономического подавления противника (запись в дневнике от 3 июля 1941 г.). Таким образом, этот план изначально подразумевал наступление широким фронтом, которое, скорее, выведет Вермахт на подступы к Москве – и послужит началом затяжной войны на истощение. Эти выводы несколько противоречат фразам о быстром разгроме противника в ходе одной кампании, которые содержит в себе окончательная редакция данного документа, однако это просто слова. Мысли, за ними скрытые, гораздо важнее. Ф. Гальдер, ответственный за создание этого плана и претворение его в жизнь, рассчитывал на затяжную кампанию, и доверил эти мысли собственному дневнику уже на 12-й день войны, когда казалось, что нет ничего, что могло бы остановить немецкие дивизии.
Всё-таки было. Что-то ведь их остановило, правда? Разработчики плана ОКХ также предвидели значительные трудности, и изначально дали ему имя германского императора, Фридриха I Барбароссы. Последний, хоть и был тёзкой прусского короля, оказался весьма незадачливым воякой: отправившись на Ближний Восток для участия в крестовом походе, он неудачно упал с лошади во время переправы через одну из рек и, несмотря, на малую глубину, захлебнулся и умер. Название, вошедшее в историю, свидетельствовало о сомнениях, которые внушают немецким стратегам трудности, связанные с некоей речной преградой. О какой именно реке шла речь? Известно, что перелом в ходе войны был достигнут как раз во время попыток 6-й армии (генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, по иронии судьбы – один из создателей плана «Барбаросса») Вермахта выйти к Волге, которые привели к её окружению и пленению значительной части личного состава. Однако отнюдь не обязательно изначально речь шла о Волге. Дело в том, что план рассыпался ещё в первые месяцы войны, когда группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Г. фон Рундштедт) приблизилась к Днепру.
Итак, несмотря на всю его подлость по отношению к воинам РККА, особенно тем, что сражались в Первом стратегическом эшелоне, план войны у И. Сталина (И. Джугашвили) был. Он не отличался особой детализацией и математическим совершенством, отличающим работу его германских визави, но в конце концов оказался достаточно эффективным. Идея его заключалась в том, чтобы постоянно растягивать вооружённые силы противника вдоль линии фронта путём создания угрозы на юге – и тем самым принуждать Вермахт снижать количество танковых дивизий в Прибалтике и Белоруссии, с их многочисленными шоссейными дорогами, ведущими к крайне уязвимым нервным центрам – Москве и Ленинграду.
Кризис операции «Барбаросса» назрел в августе 1941 г., когда немецкие войска, исчерпав свой наступательный порыв, остановились у трёх крупных городов – Ленинграда, Москвы и Киева. Ленинград, огромный город с населением в 3, 2 млн. человек, обладающий развитой оборонной промышленностью и значительным населением, позволяющим отмобилизовать и самостоятельно вооружить целый фронт, представлялся неприступной целью для Вермахта. Очевидное решение: не ввязываясь в уличные бои, изолировать город от подвоза снабжения и дожидаться его капитуляции. Москва: население 3, 13 млн. чел.; здесь расположено гораздо больше предприятий, фабрик и заводов, производящих вооружение для отмобилизованных по всей стороне призывников и резервистов. Те, а также сырьё и другая военная продукция, в частности, из Уральского промышленного региона, постоянно прибывают, так как Москва является точкой, где сходятся речные каналы и важнейшие железнодорожные артерии. Москва изначально определена как главная цель плана «Барбаросса» (и нереализованного плана «Фриц»). Киев: население 0, 86 млн. чел. Здесь также есть крупные военные заводы, «Арсенал», например. Киев уступает по своему значению Москве и Ленинграду, но захватить его гораздо проще, так как 2-я танковая группа (армия) под командованием генерал-полковника Г. Гудериана уже занимает охватывающее положение по отношению к тылам Юго-Западного фронта, которым командует генерал-полковник М. Кирпонос. Последние практически полностью обнажены и ничем не прикрыты.
Оборона Киева, к которой были привлечены огромные силы, опиралась на казавшийся непреодолимым водный рубеж Днепра, к тому же с запада её прикрывала цепь укреплённых районов. Здесь также в полной мере проявилась «готовность» советской стороны к войне. «Линия Сталина», создававшаяся, начиная с 1928 г., предназначалась, в первую очередь, для прикрытия советских границ, которым угрожал массовый исход населения от принудительной коллективизации – задачи, которые некогда выполняла Великая Китайская стена, а впоследствии – Берлинская стена. Лишь во вторую очередь её создатели думали о прикрытии развёртывания собственных войск в случае войны с Польшей. Линия УР должна была защитить группировку РККА в период, пока она наиболее уязвима, пребывая на западном берегу Днепра, и её относительно легко сбросить в реку.
Для отражения же вторжения превосходящих сил противника «Линия Сталина» была пригодна лишь относительно, так как Днепр, несомненно, осложнял манёвр стратегическими резервами, которые следовало перебрасывать по узеньким мостам. В таких обстоятельствах куда разумнее было, конечно, отойти на восточный берег, подобно тому, как немцы в 1943 г. отступили на западный, и препятствовать любым попыткам противника форсировать речной рубеж. УРы, после падения Польши разоружённые, пришлось спешно занимать в 1941 г., чтобы хоть как-то сдержать натиск немцев, однако сейчас очевидно, что решение закрепиться на «линии Сталина» было большой ошибкой.

