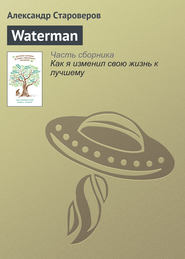По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь: вид сбоку
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я думал – ничего страшнее второй не будет. Будет!
Жизнь моя отныне – бесконечный и унылый сериал. «Небогатые тоже плачут», например. Мне стыдно. Я, мнивший себя взрослым, уверенным человеком, воспользовался детсадовским способом. Представил, как она какает. Тысяча первый раз я подтвердил свою мелкость и недоразвитость. Опоганил саму память о нашей любви. Остается только мамке в юбку уткнуться и расплакаться. Мне страшно, я чувствую себя маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном и враждебном мире. Вокруг люди, все спешат куда-то, у всех есть резоны спешить.
Делом все заняты.
Это их мир, они имеют на него право, а я здесь на птичьих правах.
«Чирик, чирик, не обижайте воробышка, киньте крошечку, спасибо, добрый человек».
Я ниже низшего, мне ничего не зазорно. В детстве я несколько раз терялся в больших магазинах. Сначала не понимал, что нужно делать, застывал в ужасе на одном месте и не мог вымолвить ни слова.
А потом понял.
Надо садиться на пол, сучить ножками и громко, на весь магазин, орать. Добрые люди обратят внимание, помогут, к маме отведут. Сил быть взрослым уже не остается. Слишком много я пережил за последние сутки, слишком много про себя узнал. Да, да, да, да – я ничтожество. Не достоин Королевы, такой, как все.
Малыш…
Ну и что, ничтожествам тоже жить надо.
У нас социализм, это в Нью-Йорке можно сдохнуть на улице, а здесь не дадут. Жалостливые обыватели подберут меня, проводят куда-нибудь, напоят чаем, уложат спать. И еще гордиться собой будут, что вот есть же на свете кто-то слабее их, а они вроде как люди. А я за это полюблю советскую власть, стану простым человеком, брошу институт, отслужу в армии: сначала дух, потом черпак и в финале дедушка. После устроюсь на завод сварщиком, буду ходить на майские демонстрации с огромной бумажной гвоздикой в руках, осуждать чего надо, верить в агрессивные планы американской и израильской военщины.
Я все буду делать, только помогите, люди!
Я не выживу без вашей помощи. Я снимаю с себя всякую ответственность, пусть другие думают и переживают. Мне хватит, я пробовал – у меня не получилось. Простите меня, я больше не буду…
Я рассматриваю слякотный, размешанный тысячами пар ног асфальт, ищу место, куда бы рухнуть.
Я хитрый мальчик, я всегда был хитрым мальчиком, может, поэтому мне и удалось голову задурить Королеве. Ненадолго. Но сейчас всей моей хитрости хватает только на то, чтобы выбрать место для падения почище. Мое последнее, клянусь, последнее решение в этой жизни – дальше я думать и решать отказываюсь…
Я нашел место. Метр на полтора асфальта, без луж и слякоти, если поджать ноги – получится уместиться. Можно и не падать, конечно, можно просто расплакаться на глазах у толпы, но тогда инициация не будет полной, мое развенчание не окажется бесповоротным. Надо упасть и сучить ножками, и биться в истерике, и пускать зеленые пузыри соплей, тогда я буду помнить это всю жизнь, до самой своей тихой, непременно тихой (а какой же еще) кончины…
Я грустно, но уже и с любовью смотрю на место будущего падения. На глазах выступает влага, она везде выступает, по спине течет пот, ладони противно мокреют.
Много во мне скопилось всего, сейчас упаду и прорвет…
Влага? Влага…
Внезапно я понимаю, что ужасно хочу писать. Обоссаться, рыдая на улице, – к этому я еще не готов, это слишком. Оказывается, во мне осталась еще капля достоинства. Можно, конечно, найти общественный туалет или отбежать в ближайший двор…
А что, если… если в последний раз попытаться сохранить себя? Сосредоточиться на том, что мне очень хочется писать, на самом деле не очень, но если сосредоточиться… Нет, нужно дотянуть до дома, а там родные стены помогут, я успокоюсь и подумаю, как быть дальше.
Я решаю сопротивляться и захожу в метро.
На «Автозаводской» терпеть уже нет сил. Но я не сдаюсь, весь длинный перегон до «Павелецкой» как мантру повторяя: «Мне очень хочется писать, очень, очень…» Ближе к «Новокузнецкой» душевная и физическая боль достигли паритета. Я еще мог думать о Королеве, но о мочевом пузыре не думать уже не мог. Когда диктор в вагоне объявил: «Станция “Театральная”, переход на станцию “Площадь Революции”», в полном соответствии с его словами Великая физиологическая революция победоносно одолела любовь. Какая, к черту, Королева, когда в организме творится такое? На «Тверской» я понял, что зря поехал, лучше бы валялся на асфальте у метро «Каширская» и оплакивал свою Ирочку. На «Маяковской» я забыл ее имя, я и свое имя чуть не забыл. Сидел, крепко сдвинув ноги, изо всех сил напрягал паховые мышцы, пытался удержать неудержимую волну.
«Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Белорусская», – раздался равнодушный голос.
«Моя станция», – чудом вспомнил я и почувствовал острую резь. Выходил из вагона я на полусогнутых. Люди подозрительно косились на меня.
Плевать, лишь бы допрыгать!
Дальше помню урывками. Как перешел на Кольцевую, например, не помню, а эскалатор помню очень хорошо. Для сокращения времени пытался не просто ехать, но продвигаться по ступенькам наверх. Уткнулся в спины каких-то диковатых колхозников с огромными баулами на ступеньках.
– Уйдите, – жалостливо пропищал я, на большее не хватило энергетического посыла.
Естественно, они даже не шелохнулись.
– Уйдите, пожалуйста, – молил я их.
Ноль эмоций. От колхозников сильно воняло говнецом, луком и сивушным перегаром. Ко всем моим проблемам прибавилась еще и тошнота. «Вот сейчас как нассу вам в баул», – мстительно подумал я. Даже потянулся рукой, чтобы расстегнуть ширинку, но тут эскалатор вынес меня на поверхность, и я запрыгал к выходу.
Свежий воздух немного привел меня в чувство. Я уперся спиной в шершавую стену у двери и немного перевел дух.
До дома оставалось еще пятьсот метров по Грузинскому Валу.
Эта мысль вселила в меня ужас.
Целых пятьсот метров!
Да за это время можно сто раз обо… обо всем передумать. За это время можно открыть закон всемирного тяготения и снова его закрыть.
Боль в паху стала нестерпимой, перед глазами вертелись желтые и фиолетовые круги.
Нет, пятьсот метров мне не одолеть. За углом находилась привокзальная рыгаловка. До нее можно попробовать дотянуть. Там – моя земля обетованная, там прохладный оазис посреди знойной пустыни. Там из заплеванного писсуара бьет вожделенный бахчисарайский фонтан…
Я уже совсем собрался рвануть к рыгаловке, но сквозь рези и боль, сквозь фиолетовые и желтые пятна в голову прорвалась упрямая мальчишеская мысль: «А для того ли я терпел всю эту бесконечную дорогу, чтобы сдаться на пороге победы? Вот он, мой Эверест, всего в пятистах метрах от меня, а я сдаваться? Нет, врешь, не возьмешь…»
Я забыл, ради чего терпел такие муки, я забыл все – все стало неважным. Стиснув зубы, со зверским выражением лица я попер в атаку.
Люди, заметив меня, в страхе разбегались, только ко всему привычные айсоры на цветочном рынке хватали меня за руки, пытаясь всучить гвоздики по рублю за штучку. Но даже они, даже они отскакивали, будто ошпарившись, и смущенно бормотали:
– Извэны, брат.
Я шел почти вслепую, вокруг меня клубился черный непроглядный туман, в висках стучало, моча в буквальном смысле ударила мне в голову. Я чуть не пропустил свой дом. И только во дворе я осознал, что почти достиг своей цели.
Я остановился, зажмурил глаза, закусил щеки, часто и мелко задышал носом.
– Саша, миленький, что случилось, – услышал я знакомый голос соседки, тети Нины, – умер кто, не дай бог?
Открыв глаза, я попытался ответить, но, не сумев произнести ни слова, с нечеловеческим воем ворвался в подъезд.
Лифта я ждал немыслимо долго – девять этажей вроде, а как будто небоскреб. А может, мне это только показалось. Казалось, я чувствую кислый (хотя откуда я знал, интересно) вкус мочи во рту. Казалось, я не выдержу и сделаю лужу прямо в подъезде.
Но я не мог, как это – у себя в подъезде?
Да лучше сдохнуть.
Когда я поднимался к себе на этаж, мысль о том, чтобы осквернить лифт, уже не казалась мне настолько кощунственной.