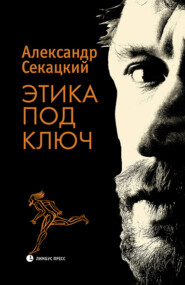По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дезертиры с Острова Сокровищ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но для уныния нет оснований. На стороне воинов нестяжательских племен прежде всего скорость мобилизации. Как говорит Ева Кукиш, «flash mobile – это наш perpetuum mobile». Овеществление и упаковка в товарную форму фрагмента авангардного бытия требуют определенного времени. Самое длительное время требуется для превращения ситуативных завитков коммуникации в устойчивую социальную связь, то есть для коррекции общепризнанной, освоенной социальной рамки. Принцип мгновенной, лишенной ритуальных жестов коммуникации нестяжателей позволяет им ускользнуть от уподобления вещам. Скорость дает возможность перешагивать через традиционную разметку социальности, не задерживаясь в тех ячейках, куда направлены основные товарные потоки. Немаловажную роль для вынужденного признания суверенитета племен играет и труднодоступность среды обитания новых аборигенов: сегодня, пожалуй, организовать очередную экспедицию в Амазонию или на реку Лимпопо проще, чем хорошо подготовленную вылазку в джунгли Петербурга, Мехико или Чикаго.
* * *
К концу ХХ столетия постиндустриальное общество – или, лучше сказать, капитулировавшая, духовно демобилизованная западная цивилизация добровольно согласилась на черту оседлости. Началось все как раз с мегаполисов, именно там впервые появились «нехорошие районы», в которых нельзя селиться уважающим себя гражданам. Раньше всего своеобразные гетто для преуспевающих появились в США, там уже в 80-е годы истеблишмент привык соблюдать границы запретной зоны, перемещаясь из одного гетто в другое по узким коридорам безопасности. Европа, Япония и Россия запоздали на пару десятилетий, но и они в конце концов вступили на тот же путь добровольной сегрегации.
Довольно скоро нехорошие районы стали непригодны не только для поселения, но и для посещения. Установились молчаливые правила, согласно которым «нормальный» человек не сунется туда без крайней необходимости, а в темное время суток «закон джунглей» вынуждены признавать и стражи порядка, не покидающие своих патрульных машин при пересечении суверенных земель Осаки или Детройта и старающиеся даже не снижать скорости.
В это же время mass media неустанно провозглашали доступность любого уголка Земли: создавалось полное впечатление, что опутанный туристическими коммуникациями и всемирной паутиной мир совершенно прозрачен. Вот ты смотришь на экран телевизора и видишь, скажем, достопримечательности Таиланда: роскошные базары, не менее роскошные пляжи, притягательные ночные клубы и загадочные статуи Будды. Все это можно увидеть и воочию, достаточно купить тур – покажут все то же самое, без обмана, не сразу заметишь и разницу «картинок». Доступность, однако, ограничивается протоптанными туристическими маршрутами: шаг вправо, шаг влево, и можно влипнуть в неприятную историю, в лучшем случае получить от ворот поворот. Но уже тогда главная черта оседлости была проведена в собственном доме, и огороженные незримой границей нехорошие районы обрели для обывателя тот же статус, который прежде имели кладбища. Не так уж много любителей ночных прогулок по кладбищам среди добропорядочных граждан – вот и идея прогуляться по Бронксу, чикагскому Хэд-ривер или по выборгской промзоне Петербурга вдруг дружно перестала приходить в голову даже самым любознательным горожанам.
Так черта оседлости, традиционно предназначаемая для того, чтобы «не впускать», впервые заработала в обратном режиме – причем сразу на просторах всей фаустовской цивилизации. Практикуемое бланкистами и другими нестяжателями бытие-поперек включало в себя и бунт против этой добровольно-принудительной черты оседлости. По мере того как социальность Запада, некогда достигшая высот гражданского общества (в масштабе истории это, наверное, ее главное достижение), отступала и скукоживалась, оставляя беспризорные территории, на них, в свою очередь, формировался исключительно благоприятный режим для нового витка антропогенеза. Сюда, в эти обширные лакуны, и устремились волны эмиграции, здесь обрели свой дом и свою родину дезертиры с Острова Сокровищ. Здесь, наконец, они получили закалку и навык побеждать.
* * *
Первые преднамеренные опыты бытия-поперек образуют чрезвычайно пеструю картину. Тут и социальное экспериментирование с отказом от непременных потребительских регалий, и новые принципы идентификации, легко дававшиеся интернет-поколению, привыкшему к никам и более чем снисходительно относящемуся к телесному оформлению этих ников. Нельзя не упомянуть и различные формы борьбы с навязчивой функциональностью вещей.
Понятно, что забивание гвоздей микроскопом было просто демонстративным жестом, способом раскрыть метафору. Тут можно вспомнить еще Кена Руэйна, в конце 60-х годов прошлого века съевшего на спор велосипед и написавшего об этом книгу. Книга так и называлась: «Записки человека, съевшего велосипед»; лет двадцать назад она была переиздана и пользовалась немалым успехом. В тексте Руэйна удачно чередовались описания «размельчения» велосипеда с последующим использованием полученного порошка в качестве пищевых добавок и рассуждения о преодолении потребительского рабства, опирающегося на слепое следование «функциональному предназначению». Кен Руэйн мог бы стать одним из апостолов современного нонконформизма, но, к сожалению, съев за год велосипед и выиграв тем самым пари, он потратил эту весьма солидную сумму самым что ни на есть буржуазным образом – на увеличение собственного благосостояния (в частности, на покупку мерседеса). Кроме того, как справедливо заметил Колесо, уделять столько времени развеществлению вещи значит оказаться в ловушке фетишизма, подтвердить власть потребительства с другого конца.
Примером куда более яркого, азартного и массового развеществления стали гонки на мобильниках, введенные в широкий оборот Бланком (тогда еще Пленицким) и его коллегами-сотрудниками из фирмы «Сенсорика». Первоначально для гонок использовалась любая ровная и слегка наклонная поверхность, скажем обыкновенный стол, чуть приподнятый с одной стороны. Участники состязаний выкладывали свои гончие мобильники на край стола к линии старта, а затем, используя рулевые мобильники, начинали звонить на свои гончие. Включался вибросигнал, и стая гончих бросалась наперегонки. Победителем считался тот, чей гончий мобильник первым добирался до края стола – или, по правилам Бланка, падал со стола, пересекая финишную ленточку…
Сейчас, когда по мобильным гонкам устраиваются чемпионаты мира и Европы, когда хороший гончий мобильник можно купить по цене автомобиля, те первые протестные гонки выглядят крайне наивно. Коммерциализация настигла это невинное занятие в течение двух-трех лет. Но оно сыграло свою роль, роль веселого, эпатажного противостояния потребительству. Можно сказать, что в борьбе с товарным фетишизмом гончие мобильники выиграли первый забег.
Всех эффектных жестов, направленных против потреблятства, не перечислить. Среди авангардных сражений были и выигранные, и начисто проигранные. Неожиданно эффективной оказалась распарка (выбор обуви из разных пар), впервые запущенная нестяжательской коммуной «бастардов» из Ливерпуля, – она нанесла существенный урон обувной промышленности. Успех в какой-то мере был предопределен быстротой наступления: отряды «поперечников» к этому времени были уже достаточно велики, с помощью походных ноутбуков могли координировать свою деятельность в режиме on line и быстро менять диспозицию, нанося следующий точечный удар.
Тем самым модное поветрие не успевало превратиться в ветер, вращающий лопасти ветряных мельниц товарного производства. О модном поветрии и вытекающей из него развернутой метафоре со свойственной ему образностью говорил Бланк.
БЛАНК. Пора бы уяснить истинный смысл притчи о Дон Кихоте. Свойство великих книг вам известно: в каком бы новом ключе, в какой бы степени забвения первоначального смысла их ни читали, читающие всегда обнаружат то, что им нужно.
Так вот. Рыцари, сражающиеся с ветряными мельницами, – это мы. Во всяком случае, мы должны ими стать. Потому что противостоит нам настоящее чудовище, обладающее одновременно свойствами мельницы и гидры. Гоббс в свое время уподобил государство Левиафану, библейскому чудовищу. Следуя ему, я сравнил бы общество потребления с Мельницей-Гидрой. Это странное существо, которому все поклоняются, представляет собой удивительный симбиоз живого и мертвого. Точнее говоря, симбиоз машины и чувствилища, наделенного проблесками разума. Представим себе эту ветряную мельницу, которую опознал когда-то Дон Кихот. В ней есть жернова, закрома, всякие там устройства для перемалывания любого поступающего разнообразия… Все преобразуется в однородный продукт, который расфасовывается в стандартные упаковки – в товарную форму. В принципе мертвый механизм, способный работать только в случае приложения внешней силы. Например, силы «ветра», дуновения – в конечном счете силы духа. Его нужно еще уловить, поскольку дух, как известно, дышит где хочет.
Но у этой Мельницы-Гидры есть и свое живое – чувствительные лопасти, способные поворачиваться и перехватывать человеческие устремления…
ГОЛОС. В живой природе есть такая элементарная способность, Бланк. Фототаксис у растений, когда они поворачиваются вслед за солнцем; есть еще хемотаксис…
БЛАНК. Верю. И чуткие лопасти Гидры ловят дуновения духа, который первоначально вовсе не имел в виду вращать мельничные колеса. Но всякое воздействие на лопасти приводит в действие жернова. Из плененной силы желания жернова труда делают товар. Улавливаете?
НЕРАЗБОРЧИВЫЕ ГОЛОСА. …Что-то старомодно, Бланк…
БЛАНК. Подходящее слово – старомодно. Если вдуматься, удивительное наречие, как если бы мы сказали «громкотихо». Но вторая часть – «модно» – прямо работает на наш образ, ведь лопасти Мельницы-Гидры улавливают в том числе и модные поветрия. Сами по себе модные поветрия – всего лишь проявления человеческой свободы, иной раз они помогают справиться с каким-нибудь тоталитарным безумием. Но это чудище приспособилось схватывать любое стремление к моде и штамповать из него фальшивки.
Вот так наши духовные порывы одухотворяют Гидру. Более того, в силу привычки такие порывы приобретают систематический характер, они вписываются в ритмику воли, которая, в свою очередь, подчиняется монотонному ритму труда. Жернова перемалывают дары природы, в том числе и данные нам дарования. Я думаю, Господь с горечью смотрит на это с высоты небес. Он, первоисточник эманации, однажды вдохнул душу живу в мертвую глину. И то, что стало с его дыханием, нельзя назвать иначе чем первородный грех – все остальные грехи лишь следствие пленения свободного волеизъявления духа.
Одухотворение Гидры называют по-разному: алчностью, стяжательством, корыстолюбием. В любом случае дух уже не дышит, где он хочет, а растрачивает себя на анимацию чудовища. А лопасти, если вы заметили, вращаются все быстрее…
ВИКТОР ЧУГУЕВ. Тогда, Бланк, алчность вроде должна нарастать. А мне кажется, она пошла на убыль… происходит что-то другое…
БЛАНК. Ты прав, времена конкистадоров остались позади. Но, друзья мои, чудовище от этого только выиграло. Настоящая алчность все еще содержит в себе неукротимость духа. Кроме того, алчность перебивается встречной алчностью, а это снижает КПД Мельницы. Поэтому самое точное название ловушки, в которую попались все цивилизации, это не алчность и не скупость, а – польза. Польза – именно так называется самый надежный способ ублажения хищного чувствилища Гидры. И мы видим, что по степени обеспеченности кормом, так сказать по величине отчуждаемой дани, этот монстр превосходит и Левиафана, и всех прочих языческих кумиров.
Идолы – материализованные призраки, порождаемые нашими страхами или энтузиазмом, – требуют приношений. Им приходится приносить жертвы, проливая при этом кровь, испытывая трепет и преодолевая инстинкт самосохранения. Но Гидре с ее жерновами достаточно приносить пользу: похоже, что такая форма дани прочнее всего порабощает дух. Великая превратность труда состоит в том, что каждый из совершающих приношение идолу думает (и даже уверен), что приносит пользу себе. Понятно, что на деле приносящий пользу прежде всего используется сам, растрачивая полученные свыше дуновения на ублажение чувствилища Гидры, на безостановочную работу ее мертвых органов-агрегатов. Известный эвфемизм «общественно полезный труд» скрывает под собой горькую истину – «гидрополезный» характер товаропроизводящего труда.
Несложно описать и каждый отдельный цикл метаболизма чудовища – его еще называют циклом расширенного воспроизводства. Вот хищные выдвижные усики-лопасти уловили дуновение и втянули его в себя. Потом заходили жернова перемалывания и заработал счетчик суммирования отдельных усилий – так монстр проявляет свою благосклонность (довольное урчание счетчиков) и показывает, что дань принята. И наконец из закромов полезло полезное… (Пауза.)
ГОЛОСА. Товар!.. Говно!
БЛАНК. Вы правы, друзья мои, это синонимы…
ЕВА КУКИШ. Об этом идет речь и в даосской философии. У Чжуан-цзы о пользе бесполезного…
СОВА. Товарный фетишизм и его существенные проявления исследованы Марксом.
БЛАНК. Что ж, как заметил всеми нами любимый Хайдеггер, «все существенные мыслители говорят об одном и том же». Но я предлагаю вам перечитать Сервантеса: помимо ветряной мельницы там есть еще и рыцарь с копьем. И мудрость его в том, что в отличие от прочих участников стяжательских войн он обнаружил настоящего врага и попытался под насмешки и улюлюканье атаковать его логово. К сожалению, найдя врага, рыцарь из Ламанчи не нашел правильной тактики.
Как победить чудовище, пока не знает никто. Я тоже не знаю. Ясно одно: чтобы уязвить Мельницу-Гидру и нанести ей урон (а это уже немало), нужно быстро маневрировать и все время менять диспозицию. Наши душевные движения и их социальные последствия не должны отливаться в форму полезности – тогда мы сможем частично перекрыть поступление движущей силы на вездесущие лопасти-щупальца-крылья. Если выказывать подобающую брезгливость или хотя бы небрежность к конечным продуктам обмена веществ, не торопиться очищать закрома Мельницы (а сегодня эти закрома-витрины оформлены особенно притягательно), у чудовища непременно случится запор и оно испытает все последствия внутренней интоксикации. Главное – прекратить позорный Гидро-лиз.
ЧУГУЕВ. А что случится с нами?
БЛАНК. С нами – ничего, кроме того, что уже случилось. Мы и сегодня располагаем экологически чистыми вещами – их круговорот неподконтролен ни Левиафану, ни Мельнице-Гидре. Но не будем обольщаться, до победы еще очень далеко, и виртуозы Гидро-лиза по-прежнему правят миром. Кстати, одно преимущество перед тем воином из Ламанчи у нас все же есть. Мы – рыцари Веселого Образа, и наши походные праздники всегда с нами.
Новая интерпретация «Дон Кихота», вошедшая в «Полный Бланк», получила широкую известность не только среди бланкистов, но и среди нестяжательских племен вообще. Сравнение Бланка на первый взгляд кажется несколько искусственным, но, видимо, оно затронуло какие-то сущностные моменты заброшенности в мир с неизбывной обреченностью на труд. Известен целый ряд попыток развить и продолжить метафору, примененную Бланком.
Скажем, ник Гаруда, один из наставников Петербургского сквот-университета, рассуждал так. Лопасти Мельницы движутся благодаря систематическим порывам конечного, заключенного в форму Я духа. Первичным продуктом в таком случае является всеобщий полуфабрикат, по Гегелю – среда вещественности. Или попросту мука
. Но из муки еще надо замесить тесто. И вполне уместно будет спросить: из какого теста мы сделаны? В какой мере само человеческое в его современном проекте складывается из потребляемых вещей и актов потребления? Не является ли оно попросту оттиском товарной матрицы на податливом тесте?
Быть может, это тесто, восходящее после того, как Мельница-Гидра перемалывает наше сущее, представляет собой вторичную глину. Вторичную – после той, первичной, из которой Господь вылепил Адама, придав ей форму, энтелехию и вдохнув душу живу. И вот Гидра сберегающей экономики втягивает в себя сначала простые потребности, затем автономные желания, включая сексуальные позывы, потом интеллектуальные и, наконец, духовные устремления. В этом процессе происходит развоплощение Первообраза: богостоятельность сменяется самостоятельностью. Но самостоятельностью условной и совершенно пустой, соответствующей английскому выражению self made man. Человек, сделавший себя сам, – такова форма высшей оценки по отношению к преуспевшим в рамках основанного на стяжательстве социума. И этот сделавший (переделавший) себя сам человек уже не Адам, а Голем. Его духовные искания втянуты в воронку, ценности перемолоты и выпечены заново, а психосоматический метаболизм на уровне социальных инстинктов включен в метаболизм Монстра.
* * *
Последовательность симбиоза укладывается в рамки эволюции техники – этот процесс исследован многими мыслителями от Хайдеггера до Бодрийяра. В частности, Альфер, друг Бланка еще с нестяжательских времен, писал по этому поводу:
Одичавшую, обезумевшую от жертвенной крови и коллективного вожделения технику удалось все же загнать в резервацию, тотемизм вновь уступил место фетишизму. Восстановилась религия общества потребления, не требующая кровавых эксцессов, ибо символические аспекты почитания в ней исключают экзистенциальную трансгрессию. Ныне левиты комфорта, жрецы новой всепоглощающей идеи, отправляют культ вещизма, удобства и подручности в соответствии с известной заповедью: «Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матф. 11: 30). Сегодня доминирует дрессированная, ручная техника, пытающаяся угадать желания своего владельца; ее всеобщим девизом стали слова, пророчески избранные однажды известной фирмой по производству граммофонных пластинок: «His master’s voice» («Голос его хозяина»). Техноценоз покорен популяцией новых вещей, мягких, вкрадчивых хищников, умеющих понимать с голоса и повиноваться, но потихоньку осваивающих формулу позывных желания, подбирающихся к имитации внутреннего голоса субъекта.
Техника, требовавшая жертв, осуществлявшая открытый вызов человеку, отправлена на свалку или в музей. Сегодняшние порождения техники не стремятся прервать симбиоз, но не следует обольщаться их видимой покорностью. Траектория превратности в отношениях человека и техники не менее извилиста, чем гегелевская диалектика господина и раба.
Дело в том, что техника, подобно многим видам в живой природе, не может размножаться исключительно путем партеногенеза, она нуждается в периодическом поступлении оплодотворяющего начала – в данном случае импульса человеческого духа. Речь идет именно о решающих моментах, о поворотных пунктах, ибо в принципе устойчивый техноценоз способен к самостоятельному поддержанию численности за счет определенной инерции человеческой деятельности. Мы ведь всегда застаем уже наличными и требующими заботы мастерские, фабрики, депо, а также склады и магазины, и нам ничего не остается, как присоединиться к повторяющемуся усилию воспроизводства – говоря словами Хайдеггера, откликнуться на зов техники, даже не подвергая его расшифровке.
Простой смысл паровозных гудков, всех фабричных сирен и будильников означает: встань и иди. Лучше всего даже не пробуждаясь, как зомби или сомнамбула. Окликнутый человек следует зову техники, словно самец брачному призыву самки, но в этом маниакальном хождении по кругу отсутствует нечто самое важное: сомнамбула неспособна к духовному оплодотворению, к производству нового эйдоса.
Чтобы отпочковалась самостоятельная жизнеспособная ветвь техники, необходимо прервать процесс вегетативного размножения, а для этого требуется коллективная духовная инъекция Мастера, Менеджера и Мечтателя. Пытаясь выманить ее, техника становится ласковой и кроткой. Эмбрионы многих великих изобретений оплодотворены и выношены в стихии игры: помимо пороха можно вспомнить телефон, который был востребован прежде всего цирковыми иллюзионистами и чревовещателями, можно вспомнить и персональный компьютер.
Как известно, вирусы вообще неспособны к самостоятельному размножению, они просто используют чужой генетический материал (программу жизни «хозяина»). Мы думаем, что техника служит нам теперь верой и правдой – не случайно пафос новейшей философии состоит в отказе от демонизации технического (П.Вирильо, А.Ронелл). Есть, однако, достаточно обоснованное подозрение, которое нельзя сбрасывать со счета: а что если техника, играя и заманивая, принимает позу соблазна именно тогда, когда остро нуждается в иноприродном ей начале, в семени духа? Жгут техники внедряется в принцип наслаждения, имитируя язык желания вплоть до интимных доверительных интонаций.
Мы видим, что развитие техноценозов осуществляется волнами: покорность сменяется независимостью, если достигнута инерция самовоспроизводства. Знакома нам и поза угрозы, применяемая доминирующим хищником. Сейчас мы как раз переживаем стадию, когда техника глубоко втянута в самое жерло принципа наслаждения, она как бы находится в позе максимального соблазна, словно искушенная женщина, знающая, чем совратить. Электронные игры, пожирающие колоссальный ресурс чистого времени, виртуальная реальность, компьютерный секс – все это суть безошибочные знамения соблазненности духа. О глубине проникновения соблазна свидетельствует, между прочим, и тот факт, что у техники сменился идеолог: впервые за время ее существования апология технического звучит не из уст инженера, менеджера или ученого, а из уст художника. Художественный авангард припал к дисплеям компьютеров, открыв для себя (с помощью вкрадчивой, тихой подсказки) область электронной психоделики, – и сегодня техническая оснащенность этого авангарда уже сравнима с технической оснащенностью армий.
Факт смены покровителя техники как наиболее существенная новация последней технотронной волны еще требует обстоятельного анализа. И пока художники, именуемые теперь арт-мейкерами, используют технику в свое удовольствие, она, в свою очередь, использует их удовольствие для выманивания семени, для оплодотворения и вынашивания эмбриона.
Еще не известно, как будет выглядеть зрелая особь, когда она вылупится из яйца, каких жертвоприношений она потребует в своем культе.
* * *