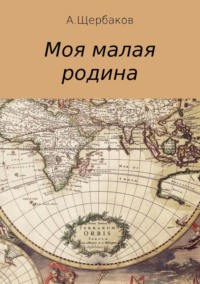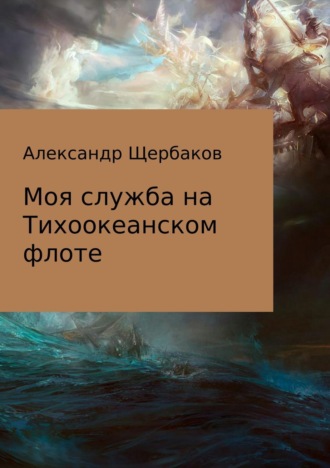
Моя служба на Тихоокеанском флоте
На моей памяти есть несколько памятных событий, связанных с ношением формы военно-морского флота. Обычно уважающие себя офицеры старались сшить себе форму в специализированных ателье. И не только парадную, но и повседневную, и обязательно фуражки. Это у сухопутных была фуражка всепогодной, военно-морской офицер имел фуражки – повседневную с белым и черным верхом и такие же парадные. Правда, можно было получить на складе три фуражки и на парадную фуражку с черным верхом натягивать белый чехол. Но уважающий себя моряк был выше этого. Так же как и обычную кокарду (краб) делали комбинированным – на большую кокарду гражданского моряка прикрепляли центральную часть кокарды офицерской со звездой и якорем. Поэтому пижонистый офицер обязан был иметь сшитый по фигуре китель или тужурку, щегольскую фуражку с большим и натянутым верхом. Когда я начал службу, весной 1972 года для офицеров флота ввели еще одну форму одежды – плащ для ношения весной и осенью. Плащ носился только с белым кашне и сидел намного наряднее, чем обычная шинель с черным кашне. В Хабаровске, куда я приехал на кратковременную побывку, о нововведении в форме еще не слышали, и меня в аэропорту задержал патруль за нарушение формы одежды. Пришлось пояснить офицеру патруля, что он отстал от жизни. Когда я щеголял в таком плаще и белым кашне по Хабаровску, редко кто не обращал внимания на франтоватого офицера. Украшением парадной формы военно-морского офицера был кортик. В конце 60-х годов новый Министр обороны маршал Гречко решил украсить парадную форму сухопутных офицеров вместо сабли кортиками, и поэтому наша промышленность наклепала кортиков с сухопутными символами. И такие кортики стали выдавать выпускникам военных училищ 1971 года. Все мои сослуживцы имели именно такие сухопутные кортики. Но я, имея возможность дать кому надо на складе вещевого имущества спирт, получил настоящий военно-морской кортик, с якорем и парусником на ножнах кортика в качества символов. Мне очень завидовали молодые офицеры и неоднократно просили обменяться, обещая приплатить за обмен. Но я не пошел на него. Честь военно-морского офицера дороже денег.
Ношение парадной формы по Уставу очень ограничено. Её можно надевать на День Советской армии и Военно-морского флота (23 февраля), на 1 мая, на день Победы (9 мая), на День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля), а также на Празднование Великой октябрьской революции (7 ноября). А так же во время смотров формы одежды и на праздники (как правило, юбилеи военно-морских гарнизонов и частей). Для повседневного ношения были другие формы одежды – тужурка с кремовой рубашкой, китель и на подводной лодке синяя куртка с погонами и надписью у кармана с должностью офицера. Мне больше всего нравился китель. Под него можно было одеть что угодно, в том числе даже теплую жилетку. Подворотничок на кителе обычно шили из куска старой простыни или наволочки каждый, подложив тонкую гибкую проволочку. Поэтому белый кант подворотничка шел строго по воротнику кителя и очень хорошо смотрелся.
Когда я был в Хабаровске на День Военно-морского флота, со мной обычно ходила гулять моя двоюродная сестра Наташа Прохорихина (потом стала Ленчик). Уж очень ей хотелось покрасоваться рядом с военным моряком с кортиком. А так я парадную форму одевал довольно редко. Но один раз мне её пришлось снять, не дожидаясь вечера. Случилось это 9 мая 1972 года во Владивостоке. Я в парадной форме прогуливался в центре города, когда ко мне подошел военный патруль и, проверив документы, предложил прибыть в кратчайшие сроки на корабль. По флоту была объявлена готовность № 1. Мне пришлось приехать в общежитие, переодеться в повседневную форму и ехать в бухту Малый Улисс, где стояла наша лодка. Там выяснились причины, почему всем морякам испортили праздничный день. Оказалось, что накануне США расширили действия в продолжавшейся уже насколько лет войне с Вьетнамом. Было заминированы все порты Северного Вьетнама и тем самым были нарушены перевозки стратегических грузов, в том числе и вооружений. СССР должен был как-то ответить. Вот тогда и были предприняты соответствующие меры. Не исключалось применение оружия, в том числе ядерного. Поэтому наша лодка, только недавно завершившая ремонт и введенная в первую линию флота, была подготовлена к выходу в море с ядерной торпедой. Уже 10 мая была привезена снаряженная ядерным зарядом торпеда и загружена в подводную лодку.
Вообще загрузка торпед в подводную лодку довольно сложная процедура. В первый (носовой) отсек торпеды загружают через специальный торпедопогрузочный люк. Они помещаются или прямо в торпедный аппарат, или кладутся на специальные стеллажи.
Кстати, для многих членов экипажа лодки торпеды в носовом отсеке служат в качестве лежанок. На торпеды ложится тюфяк (матрац) и на него устраивается матрос. В кормовые торпедные аппараты загрузить торпеду несравненно тяжелее. Там нет специального люка, поэтому торпеду устанавливают прямо в торпедный аппарат. Но аппараты находятся ниже ватерлинии и открыть наружные крышки аппаратов, это пустить воду в лодку. Поэтому лодке придают большой дифферент на нос (заполняют носовые и продувают кормовые балластные цистерны) и корма лодки появляется из воды. Открывают крышки и взад кормой торпеды загружают её прямо в аппарат. Хорошо, что даже учебные стрельбы из кормовых торпедных аппаратов производятся очень редко, поэтому такая процедура загрузки торпед довольно редкая.
В первые месяца службы, когда я еще не успел пошить себе щегольскую форменную фуражку (а лето было осенью, когда верх должен быть белый), чтобы быть в моде, у меня на фуражке был гриб. Он получается, когда круглая пружина, придающая жесткость верхнему краю фуражки, спускается чуть ниже и белый чехол, одеваемый на фуражку, принимает форму шляпки гриба. Это является хоть и небольшим, но нарушением формы одежды. И вот однажды на мою фуражку во время утреннего построения всей бригады обратил внимание её командир, капитан 1 ранга Бекетов (известная среди военных моряков во Владивостоке личность своей строгостью и принципиальностью). Он наказал меня, приказав направить в патруль. Но я не был строевым офицером, и по Уставу в патруль меня не могли послать. Я об этом хорошо знал и поэтому категорически отказался (правда, не перед командиром бригады, а перед комендантом гарнизона береговой базы). Меня могли направить на гауптвахту, но во Владивостоке была очень маленькая гауптвахта, и, чтобы туда посадить за серьезные нарушения дисциплины, нужно было еще и бутылку спирта послать. Но кто будет давать спирт за такое незначительное нарушение формы одежды? Так что мне лишь погрозили пальчиком, и сказали, что при повторении точно попаду на «губу». Но к этому времени была объявлена зимняя форма одежды и я одел уже пошитую к этому времени пижонскую фуражку.
А вот многие мои однокурсники, служившие на надводных кораблях, ходили в патрули по Владивостоку, я с ними неоднократно встречался. Почему, вы спросите? Дело в том, что на надводном корабле есть каюты для всех членов экипажа. Это на подводной лодке, особенно дизельной, есть спальные места на 2/3 экипажа, даже не на всех офицеров. В море треть команды несет вахту и после неё ложится на место, которое только что освободил его товарищ. Лодка, придя в базу, оставляет на борту вахту, а остальные матросы идут на береговую базу, где для всех экипажей есть свои казармы. Офицеры, кроме дежурных, расходятся по домам или в общежитие, как было со мной и еще двумя молодыми офицерами из экипажа лодки. А на надводном корабле увольнение на берег получают матросы только в выходные дни, а из офицеров сход на берег дают лишь треть. В эту треть входит командир, замполит, командиры боевых частей (штурманской, артиллерийской, торпедной, радиотехнической, электромеханической). Поэтому молодой начальник медицинской службы надводного корабля, особенно без семьи, месяцами не ступает на твердую землю, даже если корабль не стоит на рейде, а возле причальной стенки. Вот и идут нестроевые офицеры медицинской службы в нарушение Устава патрулировать улицы города, чтобы поглазеть на красивых девушек и походить по твердой земле, а не по качающейся палубе. А что делать?
Когда я пришел на службу, то имел около 10 кг лишнего веса. Я вообще склонен к полноте, а тут подготовка к государственным экзаменам, приезд тещи с тестем и родителей, приготовление ими очень вкусной пищи дорогому Саше перед уходом на службу, сыграли свою роковую роль. Поэтому, когда мои заботы по устройству в общежитии и началу службы закончились, я задумался о приведении себя в приличную физическую форму. Оказалось, что на базе подводных лодок 4-й бригады есть неплохой спортивный зал, и там даже есть отвечающий за его работу матрос, вернее старшина. Он сам из спортсменов, гандболист, играть в волейбол может. Вот я и стал наведываться к нему в спортзал каждый день и по два часа тренировался с ним. Так что через месяц сбросил 8 кг и привел себя в хорошую спортивную форму. С 1 октября на флоте начинается новый учебный год. Это и политзанятия, занятия по специальности, а также занятия по физической подготовке. Все по расписанию, только выходы в море влияют на посещения их некоторыми членами экипажей бригады. Учеба, или боевая подготовка – святое дело. Однажды я зашел в спортзал, когда там занимались спортивной подготовкой старшие офицеры – командиры подводных лодок, работники штаба бригады, политработники. Играли в волейбол. В одной из команд оказалось свободное место и меня пригласили занять его.
И я показал класс игры в волейбол. Наша команда выиграла, меня тут же заметили и пригласили играть с ними в другие дни занятий по физподготовке. Так я стал уже не просто лейтенантом медицинской службы, а знакомым лейтенантом да еще хорошим партнером по игре в волейбол. И если строевые офицеры, встречаясь со мной, на мое приветствие козыряли, то политработники здоровались со мной за руку. И это замечали другие офицеры. А тут еще случился случай, который выделил меня из массы молодых лейтенантов. На базе была объявлена форма одежды для офицеров – китель. А у меня этого самого кителя не было, не выдали при обмундировании. Ну не ходить же мне голышом, хотя меня предупреждали, чтобы вообще никуда не ходил. Но так невозможно. Вот иду я как-то по территории базы, а навстречу мне начальник штаба бригады капитан 1 ранга Людмирский. Видит офицера с нарушением формы одежды. Подозвал меня, я представился. И на вопрос, почему нарушаю, честно ответил. Людмирский вначале удивился, но узнав, что я из профсоюзников (так говорили об офицерах, призванных из запаса), только махнул рукой. Так я и ходил несколько дней белой вороной, на фоне офицеров в кителях со своей кремовой рубашкой под тужуркой именно так и выглядел. Правда, не очень долго – выдали мне китель по размеру, на вещевом складе уже не флота, а нашей бригады.
Моя хорошая игра в волейбол чуть не повлияла на прохождение службы. В советские времена социалистическое соревнование проходило и в ВМФ. Отмечалось, чья лодка раньше сдаст все задачи, кто лучше выполнит торпедные или ракетные стрельбы и еще что-нибудь. Обычно был комплексный подход к оценке состояния боевой подготовки экипажа. В том числе и к спортивному состоянию. Волейбол был в этой оценке не на последнем месте. И вот в составе команд, встречающихся между собой на занятиях по физической подготовке офицеров, оказались 2 командира ракетных подводных лодок с Камчатки, которые пришли на ремонт во Владивосток. Один в прошлом был хороший нападающий, входил даже в сборную команду флота. А второй был хороший распасовщик, и с ним мы очень хорошо сыгрались. Вот и тот и другой стали приглашать меня к себе в экипаж. Но для этого требовалось написать заявление и стать кадровым офицером. А значит, маячила служба в Вилючинске в течение лет 10 как минимум и постоянные выходы в автономные плавания на 2 месяца. Так что выгод в переходе не было никаких. Поэтому я не согласился. Хотя это не сказалось на наших отношениях. Собравшись в одной команде, мы громили всех на волейбольной площадке.
Во второй половине октября 1971 года я был направлен на Русский остров. Там, на базе части ракетных катеров, были организованы 2-х недельные курсы для офицеров, призванных из запаса. Собралось нас там около двухсот человек. И врачи, и инженеры, и штурмана, и радиотехники и еще кое-какие специалисты. Нас учили Уставам, строевой подготовке и еще чему-то. С занятий в столовую базы и обратно в аудитории ходили строем. Я получил по строевой подготовке отлично. Это не значит, что я такой уж способный. Просто я вспомнил, чему учили в нашей Херпучинской школе. В начале и середине 50– годов, когда я учился в младших классах, была строевая подготовка среди мальчиков старших классов. Там показывали, как правильно махать руками, как шагать, как поворачиваться вправо-влево и кругом. Мы, еще маленькие пацаны, ходили рядом с большими парнями и все повторяли. Вот эти навыки и пригодились мне во время учебы на Русском острове. Меня даже просили ходить перед строем врачей, чтобы учились у меня. Но не всем помогло. Помню, одному врачу из Владивостока поставили оценку «ноль». Он вообще не мог ходить, руками махал одновременно вперед и назад. Не знаю, может, дурачился.
В начале своей службы я познакомился с ребятами шестого курса Владивостокского медицинского факультета, которые проходили практику на береговой базе 4-й бригады. Такую же практику годом раньше я проходил в Советской Гавани на базе подводных лодок. С одним из них мы сдружились, и потом я присутствовал даже на его свадьбе. Его отец был капитаном 1 ранга в отставке. Вот тогда я столкнулся с одним обстоятельством, которое было характерно для очень многих офицеров как морских, так и сухопутных. На свадьбе я обратил внимание, что отец жениха имел довольно поношенный, лоснящийся в некоторых местах черный костюм. Потом выяснилось, что это был его единственный гражданский костюм, купленный еще в молодости. Вся остальная одежда ему доставалась бесплатно, так как это была форменная одежда. Носки, трусы, рубашки, тужурки, кителя, брюки, шинели, ботинки. Все выдавалось с вещевых складов, через определенное время выдавали новое. Так что офицеры были на полном государственном обеспечении. И они не привыкли тратить свои деньги, были очень экономные, если не сказать, жадные. Не все, но очень многие. А вот тратить деньги на выпивку не жалели. Во Владивостоке я столкнулся с тем, что таксисты не любят возить морских офицеров, презрительно называя их селедками. Потому что они никогда не дают на чай таксистам (т.е. сверх показателя на счетчике). А одетый по гражданке, я спокойно останавливал любое такси.
Со мной на лодке начинали служить еще 4 офицера – выпускники военных училищ. Все они, вырвавшиеся из жестких пут дисциплины в училищах, стали гулять по ресторанам, ходить к дамам древнейшей профессии. Два из них даже не пришли своевременно на выход в море, т.е. грубейшим образом нарушили дисциплину. Их воспитывали, не сообщая о нарушениях по инстанциям. В этом случае их карьера была бы сильно подпорчена. На их фоне я выглядел вообще ангелом. Дисциплинированный, непьющий, подтянутый. У меня всегда были начищены ботинки, т.к. бархотка была всегда в моем кармане. Особенно отличался нарушениям лейтенант Белов, его матросы за глаза называли Вайс. Был такой фильм «Щит и меч», в нем фамилия главного героя была Белов, но по легенде он служил в СС как немец Вайс. Вот так и прозвали нашего молодого лейтенанта. Все-то с ним случалось. Комсомольский билет и расчетную книжку по пьянке уронил в унитаз и смыл. В ресторане подрался, и ему китель порвали от воротника напополам. Да и еще других приключений хватало. Впрочем, всегда в экипажах кораблей встречаются такие вот нерадивые офицеры, на которых всегда валятся все неудачи. Такие люди есть не только в армии или флоте, и на гражданке их хватает.
Во время многочисленных выходов в море у врача довольно много свободного времени. Обходы отсеков, прием заболевших моряков, снятие пробы на камбузе, завтраки, обеды и ужины оставляют время и почитать. Ведь во время плавания ежедневных проворачивания оружия и технических средств не требуется, все механизмы в работе в самом процессе плавания. Конечно, было еще общение с офицерами, старшинами и матросами, но они также не отнимали много времени. Обычно весь день я находился на боевом посту, которой являлась для меня кают-компания. Здесь-то я и читал те книги, которые брал из библиотеки на береговой базе. Вначале я пользовался теми книгами, которые были доступны для всех офицеров и матросов. Но потом, как человек очень аккуратный и обязательный, я получил доступ к пользованию книг из специального хранилища. В основном это были мемуары гитлеровских военноначальников. К тому времени мемуары Жукова, Василевского, Конева не были еще написаны, а вот Манштейн, Гудериан, Денниц и многие другие фельдмаршалы, генералы, адмиралы свои мемуары написали и их даже успели перевести на русский язык. Но книг было мало, и обычно они расходились по таким вот специализированным архивам в библиотеках. Многие высшие офицеры хотели бы иметь эти мемуары в своих личных библиотеках, и поэтому многие просто «теряли» их, т.е. не сдавали обратно в библиотеку. Но обычно более одной книги им не доставалось, так как других им просто не выдавали.
А я успел прочитать мемуары почти всех известных военноначальников Германии периода Второй мировой войны. Конечно, их было интересно читать. Жаль, что в тот период не было мемуаров советских маршалов, чтобы можно было сравнить оценку одних и тех же событий с разных сторон. Но все равно мне лично было интересно читать эти воспоминания. Особенно гросс-адмирала Денница, который командовал подводными силами Германии. Потом, через много лет, когда эта литература стала доступной для всех, я перечитал мемуары Денница, и они не показались мне такими уж захватывающими, как при прочтении в первый раз. Впрочем, такое же впечатление на меня производила второе прочтение воспоминаний и наших военных. Просто накопились какие-то знания, сведения и не только с одной стороны, но и из других источников. И теперь я точно знаю, что никаким выдающимся военноначальником тот же маршал Жуков не был. Так же как очень многие его коллеги по высшему начальствующего составу Красной Армии в период войны. Войну выиграли простые солдаты и матросы, которых тысячами гнали на неподавленные огневые точки. В отличии от американцев и англичан, наши командиры не жалели солдат.
Сейчас я знаю данные о том, что более 90% немецких солдат на Западном фронте погибало от огня артиллерии или бомбежек, а на Восточном фронте – только около 50%. Это при том, что на 1 км фронта у нас было раза в 2 больше артиллерийских стволов, чем у американцев, но стреляли они по площадям, а не по целям. Вот и убивали немцев советские солдаты матушки пехоты в ближнем бою, неся огромные потери. Поэтому и понесли мы большие потери за время войны, учитывая потери солдат, матросов, офицеров и генералов.
Об адмиралах я не говорю, наши адмиралы воевали только в штабах, самыми крупными кораблями, с которыми они воевали, были эсминцы. Лишь однажды встретились с тяжелым крейсером-рейдером, обстрелявшем зимовку на Новой Земле, и второй раз с линкором «Тирпицем», который только из средств перехвата узнал, что подвергся торпедной атаке советской подводной лодки. Рисковали экипажи подводных лодок и торпедных катеров, нападавших на конвои транспортов со стратегическими грузами. Они-то и заслужили высокие награды, в том числе и звания Героев Советского Союза. Хотя в последние годы появилась информация, что многие командиры преувеличивали число потопленных кораблей. По-крайней мере, в рассекреченных архивах Германии не подтверждаются сведения об якобы потопленных транспортах. Со статистикой в Германии было строго. А все крупные надводные корабли Черного и Балтийского флотов почти всю войну простояли в базах, лишь во второй половине 1944 года выйдя в открытое море, так и не внеся существенного вклада в победу над фашистской Германией. Только участвовали в десантных операциях на побережье и вывозе личного состава из осажденных Одессы и Севастополя. Поэтому мемуары советских адмиралов я читал с большим скепсисом. Только командующий Северным флотом в период войны адмирал Головко командовал небольшими силами, а все остальные только изображали, что воюют и чем-то командуют. Но обо всем этом я узнал намного позднее, а в то время зачитывался историческими мемуарами. И всему, что читал, верил. Так же как был убежден, что мы, подводники Советского Военно-Морского флота, стоим на защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции.
В СССР выпускались различные справочники о вооружении стран НАТО, о количестве войск, танков, ракет, кораблей, о тактико-технических характеристиках всего оружия, в том числе кораблей и подводных лодок. Но ни в одном справочнике не было сведений о характеристиках вооружения Советской Армии и Флота. Это были секретные сведения. Хотя в справочнике, изданном в Польше, можно было узнать все о наших Вооруженных Силах. Непонятно, зачем была эта игра в секреты. А то, что все наши секреты были известны нашим потенциальным противникам, нам рассказывали на проводимых контрразведчиками регулярных занятиях. Нам давали сведения о всех авариях и катастрофах в армии и на флоте. Обо всем этом не печаталось в официальных средствах массовой информации. Хотя те же американцы все обо всем знали.
Приведу один пример. Я писал, что в плавучем доке наша лодка стояла рядом с траулером, который на самом деле был разведывательным судном, начиненным самой современной аппаратурой. Врач этого траулера, который вместе со мной кончал институт, рассказал, что во время их многомесячного плавания где-то в центре Тихого океана к их борту подошел американский военный корабль и поздравил одного из офицеров с рождением ребенка. Сам офицер об этом не знал, никто ему эту информацию из штаба соединения не передал. И потом, придя в базу, он узнал, что информация о рождении ребенка соответствовала истине. Вот это разведка! И это не командир судна, а простой офицер. Так что огромные затраты на сохранение секретности тратились впустую. И вообще огромные военные расходы на Вооруженные Силы были напрасны.
Меня часто спрашивали – что Вы чувствуете, когда подводная лодка уходит на глубину. Да ничего. Спустившись в чрево лодки через верхне-рубочный люк, погружаешься в электрический свет, не очень яркий, но достаточный, чтобы не натыкаться друг на друга. И он будет таким, пока не иссякнуть аккумуляторные батареи. Такого в моей службе не было. Да, ты слышишь заборные шумы, слышишь, как выходит воздух из цистерн лодки, но ни изменения давления, никаких других изменений физических параметров в лодке не ощущается. Не скрепят переборки, ничто не трещит. Просто по нашей лодке никогда не бросали глубинные бомбы, не стреляли торпеды. Хотя и без этого было три случая, когда я мог погибнуть и без применения оружия. Первый случай произошел еще в период прохождения ходовых испытаний. Чтобы после каждого выхода в море, вернее в залив Петра Великого, мы, чтобы не терять времени на переход, на ночь становились на якорь в проливе между материком и Русским островом. По утрам, независимо от места нахождения, у причала и на якоре в море, проводится проворачивание оружия и технических средств (помните?). Нужно сказать, что у нас на лодке было очень немного моряков, которые до этого плавали на других лодках. Наша ведь простояла на ремонте практически 3 года, а служили моряки именно столько лет. Поэтому к нам перевели несколько старшин, имеющих опыт плавания на других лодках, для обучения и передачи опыта эксплуатации молодым. И вот один из таких молодых, трюмный, должен был крутить всякие маховики, открывая и закрывая что-то в трюме прямо в центральном посту. Получив команду открыть клапан вентиляции цистерны быстрого погружения, он и не подумал его выполнить. А командир БЧ-5 (электро-механической части) капитан-лейтенант Сайпулаев, получив от этого матроса информацию, что клапан открыт, дал в цистерну воздух. Цистерна быстрого погружения, в отличии от других цистерн погружения, продувается воздухом высокого давления (200 атмосфер). И 200 атмосфер пошли в цистерну. А клапан закрыт. Хорошо, сработал аварийный клапан (лодка-то только что из ремонта) и давление не разорвало лодку напополам. Я услышал по громкоговорящей связи мат механика (что он обычно не позволял) и выскочил в центральный пост. Там и узнал, что лишь случайно не пошли на корм рыбам. Вот что значит нерадивость всего одного матроса, которая могла привести к катастрофе и гибели подводной лодки.
Другой случай произошел, когда я вышел в море на другой подводной лодке. Мы должны были выполнять роль мишени при торпедных стрельбах атомной подводной лодки. Вышли в море, где-то в районе острова Путятин погрузились. Там по нам стрельнула атомоходная подлодка (торпеда учебная, имела заглубление ниже нашей фактической глубины) и мы пошли на всплытие. И вдруг страшный удар в носовую часть лодки. Многие попадали, кто-то сумел устоять, ухватившись за что-то. Я сидел в кают-компании на кресле, меня бросило на переборку. Вначале наша лодка пошла на глубину, потом стала стремительно всплывать – командир продул балласт. Всплыли, долго никого не выпускали наверх. Потом пришла информация, что мы столкнулись с атомной лодкой. Оказалось, что командир дизельной лодки, не прослушав гидролокаторами обстановку на поверхности, стал всплывать. А атомоход, в свою очередь не слушая горизонт, прямым курсом пошел в базу и ударил своим носом по всплывающей дизельной лодке. Удар был скользящий, пришелся по носу в районе легкого корпуса. Поэтому легкий корпус только деформировался от удара, вода не попала в прочный корпус. А если бы атомоход ударил в середину корпуса дизельной лодки в районе прочного корпуса, исход был бы один – мы бы утонули. Атомная лодка по водоизмещению в два раза крупнее дизельной лодки, его прочный корпус в полтора, а то и в два раза, крепче прочного корпуса нашей лодки и после столкновения наша лодка просто бы ушла на дно, имея огромную пробоину в районе сосредоточения всех важнейших узлов на всплытие.