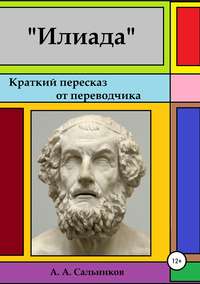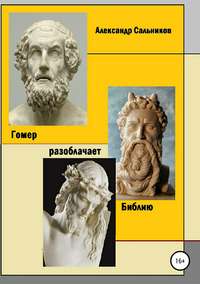Ветлуга поёт о вечном
Доставал до небес! Мы впервые теперь –
Чтобы Бог издалёка мог видеть наш храм –
Красным золотом ярким покрыли его…
Рано встал я сегодня. И солнце ещё
Из-за леса не вышло, чтоб мир осветить.
Долго думал о том, что недавно совсем
Дик и тёмен был край наш без веры в Христа.
И всё это я вспомнил, что вам говорю…
И едва лишь подумал о храме (в окно
Своей кельи взглянул на вершину трудов),
В этот миг встало солнце и крест обожгло,
Засиял он огнём! И лучи от него
Осветили и келью, и сердце моё.
Бог увидел! Он громом сегодня гремел
Прославляя свершение наших трудов!
Но грозу не пустил! Нам же – знаменье дал:
В облаках над Ветлугой сегодня возник
Дивный старец седой и, подняв два перста,
Словно мир под собой он хотел окрестить…
Так восславим же, братья, деянья Творца!.. –
И народ весь ожил, как живая волна.
5. Отмеченный Богом
Ярким солнцем светились улыбки людей,
И предчувствие праздника было вокруг.
Лишь умолкла толпа, чтобы снова вникать
В слово мудрое старца Пафнутия, тут
Вдруг в народе возникло движение, шум,
Женский голос раздался из ближней толпы:
– Вот он, бабы! Разбойник! Держите его!
Черемисский бандит! Тать лесная! Держи!
Помогай, мужики! Стой! Куда? Не уйдёшь! –
Баба в синем платке, в душегрейке поверх
Сарафана цветного, вцепилась в рукав
Мужичка из марийцев. Он смирно стоял
И не думал бежать. Но его мужики
Всё ж схватили: – Украл чё? – У бабы спросил
Здоровенный детина, что крепко держал
Мужичка за рубаху. То был Тихомир,
Старший сын кузнеца из Кажирова, он
Мог корову поднять на широких плечах,
И один против многих он в драках стоял.
– Что он сделал? – спросил. Ему баба в ответ:
– Это он с теми был, что два года назад
Нашу церковь сожгли, и в деревне дома…
Я узнала его! Что молчишь?! Отвечай!
Я по шраму узнала: вон – крест на щеке!..
– Отвечай! – приказали ему мужики.
И марийца кузнец передал мужикам.
Те к игумену ближе его подвели:
– Ты два года тому монастырь разорял?
– Я, – ответил мариец. Он смирно стоял.
Был он просто одет. Но на поясе – нож,
За который он даже и браться не стал.
– Утопить его! В реку! – шумела толпа.
– На костёр! Удавить! Храм, паскуда, спалил!..
– Вон дружки его! Тоже, небось, хороши!..
– И хватило же наглости снова прийти…
– Утопить его, братцы! В Ветлугу тащи!.. –
Руку поднял игумен. Народ замолчал.
– Бог взирает на вас. И сейчас, и всегда.
Перед Ним кто из вас хочет стать палачом?
Кто решится из вас, и судить, и казнить?
Кто на душу свою хочет взять смертный грех? –
И кричащие вмиг опустили глаза;
Опустили марийца и в круг отошли.
На марийца игумен свой взгляд обратил:
– Говори, что ко храму тебя привело?
– Я из знатного рода, – мариец сказал. –
Моё имя Бакмат, мой отец – Вурспатыр,
Пятый сын князя бывшего Ош-Пандаша,
Что в крещении прозван был Байбородой;
Что в то время, когда был и голод, и мор,
Разделил учесть многих: он умер в тот год.
А отец мой, спасая народ, разорил
Состоянье своё. На Ветлуге тогда
Даже ели детей. Так легенды гласят.
Пысте-Хлынов же, город, совсем опустел,
Вымер вовсе, собаки да крысы одни
Ели трупы умерших. А после река
Взбунтовалась и смыла весь город водой.
Так легенды гласят. И об этом мне мать
Говорила не раз ещё в детстве моём.
Говорила, что – божья то кара была
Из-за Байбороды, что когда-то ходил
В Соли Галича, где разорил монастырь
Воскресенский, и много народу побил
В деревнях и в посаде; и многое взял.
Я родился уж после и деда не знал.
Но с тех пор беден стал мой отец, он не мог
Наживаться войной, а трудом – не умел.
Но был горд, чтобы помощь у братьев просить.
И ушёл он с тех мест. И пришёл под Якшан.
Стал охотой в лесах он тогда промышлять.
И меня с малых лет часто брал он с собой.
Научил меня метко из лука стрелять,
И следы различать. Дома ждали нас мать,
Да ещё младший брат мой, Акпай, и сестра
Окалче, что была самой младшей в семье.
Так мы жили в марийской деревне, в лесу.
Все отца уважали и знали наш род.
Но однажды с охоты отец не пришёл.
Это было весной. Лёд был тонок в реке.
Мы искали его много дней. Не нашли.
Долго плакала мать, сердцем чуя беду.
Только в мае охотники весть принесли
Что останки его отыскали в реке
По течению ниже… Останки отца
По ремню и ножу опознали тогда.
Вот он, нож. – И мариец из ножен достал
Острый длинный клинок, что на солнце блеснул.
Баба, что опознала марийца, теперь
Даже охнула: – Господи! Он же с ножом!
– Нож-то я не заметил, – тихонько сказал
Тихомир. – А не то бы, конечно, отнял. –
А мариец продолжил:
– Как старший, я стал
На охоту ходить. Брал и брата с собой.
Но однажды, когда мы с добычей пушной
Возвращались домой, то почуяли дым.
И чем ближе, тем гуще и едче он был.
Испугавшись, что это деревня горит,
Поспешили скорее домой мы. И там
Нас застала беда. Вся деревня в огне,
Всюду трупы лежат мужиков, стариков,
Даже женщин и малых детей. А в живых –
Лишь немногие те, что успели в лесу,
В тёмной чаще укрыться; да пара старух,
Что над мёртвыми выли как волки в лесу.
Мать изрубленной мы возле дома нашли.
А сестры Окалче не могли отыскать.
Но узнали от выживших: то был отряд
От татарского хана; невольниц ему
Набирали в гарем по Ветлужским лесам.
И с другими сестру Окалче увели.
Восемь лет лишь исполнилось ей в том году.
Обезумев, в погоню мы бросились, но
Не смогли их догнать. Кони их унесли.
Если б волками мы обратиться могли,
Что б без устали денно и нощно скакать;
Или соколом быстрым, что в небе стрелой
Может мчаться. Но ноги не скоро несут.
И печальные мы воротились назад.
Долго плакал мой брат. Ему было тогда
Лишь одиннадцать лет. И у нас никого
Не осталось на свете. Когда человек
Потеряет три пальца на правой руке.
То последние два он сильней бережёт.
Вот и брат для меня стал дороже всего;
Всех родней, всех любимей. И я для него
Стал дороже всего. Мы с ним стали тогда
Как один человек, словно сердце одно.
Не успели ещё мы и мать схоронить,
Прибыл князь Кельдибек. Сообщили ему,
Что татарский отряд на деревню напал.
Он на помощь спешил. И в погоню пошёл.
С ним и мы попросились в погоню идти.
Нас на крупы коней посадили тогда.
Мы три дня по следам догоняли отряд.
По дороге узнали: татары ещё
Две деревни пожгли, перебили мужчин
И невольниц забрали. Немногие те,
Кто имели коней и от бойни спаслись,
С нами вместе поехали, чтоб отомстить.
По дороге в селениях вызнали мы,
Что на стругах ушли они вниз по реке.
Но за Шанзой уже мы в излучине их
Всё ж настигли. И там, где поуже река,
Мы вдоль берега встали, да так, что от стрел
Наших быстрых они уж уйти не могли.
Но едва лишь на выстрел они подошли,
Мы увидели их, и никто не посмел
Даже руку поднять, тетиву натянуть,
И пустить хоть стрелу. Мы застыли, дивясь.
Вдоль бортов переполненных стругов стоят
Наши женщины, плачут, на помощь зовут,
Просят, чтоб наши стрелы оставили их
На родимой земле, чтоб река их взяла.
Не хотят они в плен к иноверцам идти.
Только связаны крепкой верёвкой они,
А за спинами их слышен был смех татар.
Среди женщин узнали мы и Окалче.
Как увядший цветочек стояла она
Среди пленниц марийских и русских. Потом
И она нас узнала. Просила она,
Чтобы метко мы в сердце попали стрелой,
Чтобы быстрой и сладкой была её смерть
На Ветлуге-реке, средь Ветлужских лесов,
На глазах у родных её братьев, сейчас,
А не в дальних краях да в неволе, в тоске.
Но никто не осмелился руку поднять,
Тетиву натянуть и пустить хоть стрелу.
Брат мой нежно любил Окалче, как и я.
Он с ней с детства водился, лелеял, играл.
Он к ней ближе был сердцем, и он понимал,
Что неволя её – это худшая смерть.
И неволю её мы себе не простим.
А её скорбный плач разрывал нам сердца.
И не выдержал брат: натянул тетиву
И стрелу прямо в сердце послал Окалче.
И прервался навеки её голосок.
И упала она, словно сорванный цвет,
Прямо в волны реки. Тут же следом и я
Прямо в сердце того, кто стоял за спиной
Окалче, – смерть крылатой стрелою послал.
И поднялся сильней женский плач над водой:
«Перебейте их всех! Перебейте и нас!
Нам без наших детей, без мужей, без семей
Будет жизнь – словно смерть. Лучше здесь умереть!»
И посыпались стрелы на струги татар
Чёрной тучей, грозой, непрерывным дождём.
И окрасились волны Ветлуги-реки
Кровью русских, татар и марийцев в тот день.
Кровожадные рыбы плескались в реке
Возле тел и глотали их свежую кровь.
Только кони татарские в стругах стоят,
Среди трупов, привыкшие к смерти людей,
К свисту стрел и к войне, ожидали конца.
На излучине трупы течением все
Прибивало на берег, и струги татар,
Уже полные трупами, к берегу шли.
И молили пощады немногие те,
Что остались в живых. Только князь Кельдибек
Всех велел перебить, опасаясь, что слух
До Орды доползёт, и пошлёт хан войска.
Мы забрали коней. А потом приказал
Хитрый князь Кельдибек из воды на песок
Струги вытащить все, и все трупы собрать;
И татар, и невольниц на стругах сложить:
Для невольниц два струга, и два – для татар.
Только мы не могли отыскать Окалче,
Знать: Ветлуга-река Окалче приняла.
А затем нарубили деревьев сухих;
Ими струги укрыли: сложили большой
Погребальный костёр. Но оружие всё
И доспехи велел Кельдибек поснимать.
И пылал тот костёр целый день и всю ночь.
И была от него ночь светла, словно день.
И казалось, что пламя касается звёзд.
И казалось, что слышатся нам голоса
Из огня бедных женщин и подлых татар.
Горше этой победы не знал я ещё.
Но с тех пор замолчал бедный брат мой Акпай.
Стал совсем он немым, словно вырвал язык.
Возвращаться нам некуда было теперь.
Кельдибек дал коней нам, дал сабли, щиты.
Мы в дружину его поступили служить,
И служили мы верой и правдой ему.
Вместе с ним мы на Устюг ходили войной.
В те походы нас вёл хан Орды Алибек.
Много взяли добычи, и в плен привели
На Ветлугу мы много народу тогда.
Среди пленных священники были. Один
Полюбился потом Кельдибеку за ум.
Взял его он для выкупа, но отпустил,
Потому что сам Бог его речью владел.
Говорил он ему: «не убий и люби»…
Но потом мы на Галич ходили войной.
В те походы опять нас повёл Алибек.
Кострому разоряли и Плёс, и ещё
Лух и Юрьевец с Кинешмой. Много с тех пор
Крови выпили жадные наши клинки.
Были мы словно в одури. Часто в бою
Всё казалось мне, будто я подлых татар
В стругах бью на родимой Ветлуге-реке.
Видел я, что и брат мой с такой же тоской
В бой кидается, словно ища свою смерть.
Только он всё молчал. И его уж давно
Звали все Немтырём. Имя знал только я.
Так мы жили тогда, от войны до войны;
Лишь в войне забывая сердечную боль.
Нас за храбрость приблизил к себе Кельдибек,
С ним бок о бок мы бились в кровавых боях.
Стал он нам, как отец, мы – как дети ему.
А потом била нас и московская рать.
И обратно ушли мы к Ветлуге-реке.
Разделилась Ветлуга на Русь и Мари:
Правый берег – у русских, а левый – у нас.
Как и раньше то было, при князе Донском…
Так мы жили. Был мир, мы же ждали войны:
Долго в мире, увы, не живёт человек.
А потом к Кельдибеку народ побежал,
Говоря, что князь русский Василий Косой
Гонит силой мужчин из Ветлужских лесов,
Чтоб набрать себе войско в поход на Москву,
Чтобы князем великим в Москве ему сесть.
И опять за народ свой восстал Кельдибек.
Возле Унжи на поле сошлись мы в бою.
Князь Василий Косой был тогда не один
Кроме рати своей, братьев рати он вёл:
Дмитрий Красный с ним был и Шемяка ещё.
Всё же принял тот бой храбрый князь Кельдибек.
Многим «взятым» мы дали свободу в тот день
И марийцам, и русским. Но вместо того,
Чтобы с нами сражаться, помочь нам в бою,
Те в леса побежали, чтоб скрыться совсем.
Лишь немногие, взяв у убитых мечи
И щиты, вместе с нами в атаку пошли.
Только были и те, кто был рад, что вступил
В войско русского князя: разбойный народ,
Бедняки, бурлаки, что бежали в леса
От хозяев своих. Те пошли против нас.
Долго бились мы. К русскому князю уже
Кельдибек прорывался на буйном коне.
Пеших бил он копьём, и конём их давил.
Рядом с ним бились мы: я – с одной стороны,
А с другой – брат Акпай, как два сильных крыла
Птицы сокола. Соколом был Кельдибек.
На могучих конях мы летели вперёд.
Стрелы роем пчелиным впивались в щиты,
По кольчугам и шлемам звенели, резвясь.
Первым ранен был я арбалетной стрелой,
Что пробила плечо мне, кольчугу прорвав.
Брат Акпай Кельдибека собой заслонил
От копья, что пустил князь Василий Косой.
В бок попало копьё между прочных пластин
Боевого доспеха. Поник брат Акпай,
Но остался в седле и с коня не упал.
Взял Василий Косой тут другое копьё.
На него в этот миг Кельдибек налетел
И ударил он русского князя копьём.
Тот щитом защитился, но сильный удар
Расколол его щит. Тут и смерть бы пришла
Князю русскому, только другой его брат,
Дмитрий Красный, пустил в Кельдибека стрелу
И попал под доспех, в ногу, возле седла.
На секунду замешкался князь Кельдибек.
Но Василий Косой тут ударил его
Изо всей силы в грудь своим острым копьём.
Не пробил он доспех, но сломалось копьё
И под горло вошло древко острым концом.
Так погиб Кельдибек. Не упал он с коня,
Опрокинулся лишь на его сильный круп.
Тут погиб бы и я, но успели как раз
Подойти, чтоб отбить нас у русских князей,
Сыновья Кельдибека, Мекеш и Тугай.
Мы прорвали кольцо и в леса отошли.
Брат мой жив был ещё. На руках у меня
Молча он умирал. Но пред смертью Акпай
Немоту многолетнюю всё же прервал.
Только слово одно он сказал: «Окалче»…
И безумие сердце объяло моё:
Никого у меня не осталось тогда.
Умереть мне хотелось, погибнуть в бою.
Сыновья Кельдибека и жрец Янгоза
Против русских народ поднимали кругом,
Чтоб марийцы за князя могли отомстить.
Поветлужье подняли они на войну,
Призывая вершить справедливую месть:
Жечь деревни и сёла… Но ваш монастырь
Перед нами стоял, как бельмо на глазу.
Призывали жрецы разорить монастырь,
Сжечь дотла, чтобы рухнула вера в огне.
Чтобы не было русских в Ветлужских лесах…
Помню я, что когда жгли мы этот ваш храм,
Нам попался монах. Он не стал убегать;
Он тушил и пытался достать из огня
Металлический крест, что лежал в головнях.
Я монаха хотел оттащить от огня,
Но успел он схватить раскалённый тот крест
И к щеке моей огненный крест приложил.
Руки сами от боли разжались мои,
А монах убежал, но не выпустил крест.
Вот с тех пор я ношу этот шрам на щеке.
А потом жгли мы ваши деревни огнём.
А потом на щеке воспалился мой шрам
И свалила меня непонятная хворь.
Я в беспамятство впал. Жрец не мог исцелить,
И к ведунье в Соколье меня увезли.
А потом я узнал: на Ветлуге меня
На плоту подобрал одинокий монах.
Знать, ведунья сказала, что плохи дела
И велела пустить по воде на плоту…
Долго я у монаха без чувств пролежал.
Приходили ко мне Окалче и Акпай.
Как живые стояли они предо мной;
Говорили, чтоб сердце о них не томил.
Приходили затем и отец мой, и мать.
Даже князь Кельдибек посетил мои сны.
Так монах много дней надо мною провёл.
Он одной лишь молитвой меня исцелил.
В благодарность за то две зимы на него
Я работал и честно ему я служил.
Жил он в маленьком ските на Красной Горе.
А потом он сказал, что я должен уйти
И вернуться сюда, и на храм посмотреть.
Он сказал: «Без огня, не поднялся бы храм
В новом свете своём». И ещё он сказал:
«Не убий и люби. Жизнь от Бога дана.
Умереть не стремись, но и жизнь не держи».
Так расстались мы с ним. Он велел мне пешком
Этот пусть совершить, по дремучим лесам.
Так пришёл я сюда. Так увидел я храм.
Вот, стою перед вами таким, какой есть:
Умереть не стремлюсь, и за жизнь не держусь… –
И Бакмат замолчал. И молчала толпа.
Тут игумен Пафнутий народу сказал:
– Кто прощает другим, Бог простит и тому.
С Божьей помощью многое можно свершить:
И врагов побеждать, и дома воздвигать.
А без Бога – пусты все людские дела.
Божьей волей и храм наш из пепла восстал.
Так простим тех, кто рушил: не знали они
Что творили во зло, и для зла, и со зла!
Видим мы, что сегодня и те, кто грешил –
Среди нас! Мы их с радостью примем, простим.
Здесь марийцев я вижу, татар, вотяков…
Среди русского люда как братья они.
Всех приемлет Господь, кто к нам с миром пришёл!
Мир вам, люди! – И долго у церкви народ
Ликовал, славя Бога в молитвах своих.
6. Милосердие и муки
И потом ещё долго историю ту
Повторяли, дивясь, обсуждали в толпе,
Пересказы пошли: кто не слышал ещё,
Тем по новой рассказ в варианте ином
Излагали, украсив его на свой лад.
А за крепкой стеной монастырской, в рядах
Всё толпился народ: предлагали купцы,
Кто не хитрый, а кто и мудрёный товар:
Заграничный и штучный, и, ох, дорогой!
С внуком бабка Наташа идёт по рядам.
Митька-внук крепко держит её за подол,
Чтобы не потеряться в шумящей толпе.
Из деревни своей они пеша пришли,
Чтоб на храм посмотреть, поклониться ему.
Встали рано, и солнце ещё не взошло.
– Баб, купи мне бараночек, – мальчик просил.
– Кушать хочешь, родной? На-ко, съешь пирожок. –
Тут же свой узелок развязала она
И достала для внука один пирожок.
Накануне она пирожков напекла,
Чтобы взять их сегодня в дорогу с собой.
Митька взял пирожок и хотел уже есть.
Вдруг он видит: навстречу идут не спеша
Мальчик, старше его, и какой-то монах.
На груди у монаха сплетён из прутов
Плоский короб висит. В этот короб кладут,
Кто яйцо, кто калач, кто ржаной каравай.
Только вот вместо рук у монаха торчат
Два каких-то ужасных железных крюка.
Митьку страх одолел из-за этих крюков.
Так у рта и застыла рука с пирожком.
А монах-то всё ближе, да прямо на них.
Мальчик жмётся к старухе, чуть с ног не столкнул.
– Митька, что ты?.. – А Митька не слышит её,
Он прижался к подолу, со страхом глядит
На монаха безрукого. Тихо сказал:
– Баб, смотри-ка: безрукий… –
Безрукий монах
Был высок и красив; чёрный волос, как смоль
Окаймлял его голову; смугл на лицо;
И глаза тёмно-карие в душу глядят.
Митька тотчас свой взгляд, испугавшись, отвёл.
А безрукий смиренно отвесил поклон,
Поклонился и мальчик, что шёл рядом с ним.
Поклонилась и бабка Наташа в ответ:
– Дай, Степан, тебе Бог!.. – проронила она,
Положив в его короб один пирожок.
А потом, как монах мимо них уж прошёл,
Долго в спину крестила костлявой рукой.
Мальчик видел, как бабка в зелёном платке
И с корзинкой в руках ничего не дала,
Лишь обоим ответила:
– Бог вам подаст.
– Баб, а кто он? – у бабушки Митька спросил.
– То Степан Кельдибеков. Он так-то Петров,
Сын Петра-скорняка. С детства он сирота.
Но как руки свои потерял с языком,
Так его Кельдибековым стали все звать.
– С языком? Как он их потерял? Расскажи.
На войне? – всё уняться мальчишка не мог.
Внуку бабка Наташа сказала тогда:
– Вон, пойдём-ка в сторонку, да я отдохну.
Больно ноги устали ходить-то весь день.
Там тебе расскажу. – И поправив платок,
Домотканой работы, в цветках-васильках,
Повела внука в сторону, где на лугу
Отдыхали уставшие. Кто разостлал
На траве полотенце, на нём разложил
Яйца, лук, огурцы да ржаной каравай;
В крынках квас у одних, у других – молоко;
Кто так просто сидел, да на небо глядел;
Кто и вовсе лежал на траве-мураве,
Уж насытив себя в ясный майский денёк.
С внуком бабка Наташа под ивовый куст
Разместились едва, как услышали вдруг:
– Можно с вами рядком?.. Ох, как день-то хорош!
Так и жарит! Давно в мае так не пекло… –
Рядом села та самая бабка, она
Примостилась на кочке. Зелёный платок
Чуть расслабив, у юбки поправив подол,
Да корзину удобней поставив вблизи,
Разместилась, как будто уж приглашена.
– Как зовут-то мальчонку? – спросила она.
– Митрий, внук мой, – Наташа ответила ей.
– Митька, значит… А мы вон, у родичей здесь,
С сыном. Сын-то – купец. Вон телеги его.
С самого Соколова добрались сюда.
Мы оттуда вообще-то, а здесь – у родни.
Уж неделю гостим. Завтра едем домой.
Верка Шишкина я, не слыхала, поди? –
Верка ей не сказала, что звали её
Верка Шиш – то за жадность и чёрствость души.
И отца её, что в Соколово купцом,
Колька Шиш часто звали за жадность его.
Так и сын её с прозвищем этим ходил.
Но в селеньях других всем твердили они,
Что, мол, Шишкины мы, так, мол, все нас зовут.
– Не слыхала, – Наташа ответила ей.
– О родне-то моей ты уж слышать должна:
Все здесь мельника знают…
– Не местные мы.
– А откуда ж?
– Из Ракова. Там я всю жизнь
Прожила…
– В глухомани-то этой? В лесу?
– Одинаково солнце-то светит везде.
Ты бы, милая, шла, где ещё посидеть…
– Ладно, ладно… Марийца-то слышала, тут
Изловили, злодея, что церковь пожёг!
Я бы их, черемисов проклятых, ужо!..
У родни-то, у нашей, амбары сожгли.
Разорили вчистую. Уж я бы их всех
Утопила в реке! Состоянье едва
И поправили.
– За два-то года – едва?
Тут всю жизнь поправляешь, и нет ничего.
– Ну так, милая, это ведь надо уметь.
Где обманом, где подкупом. Честный-то труд
Мало ценится, мал от него и доход. –
Тут уж бабка Наташа сказала опять:
– При ребёнке ты лучше язык придержи.
Рядом с храмом обманом-то жить не учи.
Может, место другое найдёшь, посидеть?
Здесь я внуку хотела рассказ рассказать,
Быль одну. Хочешь слушать – сиди. Нет, – ступай.
А не то, так и мы место лучше найдём…
– Ладно, ладно, не злись. Интересно и мне
Быль послушать твою. Помолчу, так и быть. –
Бабка Вера взяла из корзины своей
Полотенце, затем на коленях его
Расстелила, достала один огурец,
Лук, чеснок и яйцо, ломоть хлеба ещё.
Стала кушать и слушать обещанный сказ.
Тихо бабка Наташа сказала, вздохнув:
– Ну, так, стало быть, слушайте дивную быль.
Про Степана Безрукого…
– Ты про того,
Про урода-то, что два крюка вместо рук?
– Про него.
– Интересно…
– Тогда помолчи!.. –
Бабка Вера набила себе полный рот,
И жевала молчком. А Наташа, вздохнув,
Покачав головой, вновь рассказ начала:
– Был Степан этот славный певец и гусляр.
Как, бывало, затянет: «…Ветлу-угой реко-ой
Шёл купцов карава-ан на ушкуях больши-их;
На ушку-уях больши-их, да со стра-ажей большо-о-ой…».
Любо-дорого слушать-то было его.
Много песен он знал. Только рос сиротой.
С дедом жил, а потом, как подрос, – и один.
На гуляния все приглашали его.
И в другие деревни возили, чтоб там
Песни дивные пел он на свадьбах и так…
А потом уж его и в Якшан стали звать.
Был он молод тогда. В саму пору ему
Заводить бы семью. А у князя тогда,
Кельдибека покойного, дочка была.
Уж красавица, лучше-то вроде и нет.
Стан ольхи молодой, а ресницы, – что два