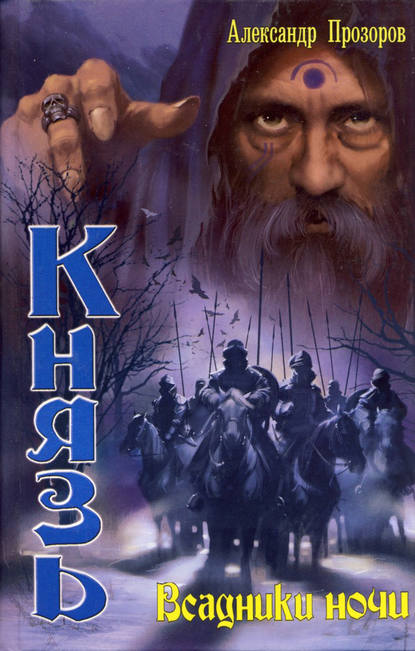По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всадники ночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она-то, милая, прямо бледная вся, не хочет с тобой расставаться. Аж всплакнула, когда двугривенный мне кидала. Шепнула, к жене тебе ехать надобно. Деять, о чем сговаривались.
– О чем сговаривались?! – не понял Андрей.
– Про то княгиня не сказывала. Милостыню бросила, два алтына, да пока рядом стояла, перекрестилась, пару слов лишь шепнуть успела. Сказывала, тоскует без тебя, да про жену еще.
– Вот, черт! – Зверев зло сплюнул, чуть отступил, глянул в сторону храма.
– Ой, не ходи туда, касатик! Князь Петр увидит, неладное почует. Зело ревнив князь да буен во гневе. Побьет милую твою, как есть убьет.
– Он надолго, Ксения? Когда уедет?
– Вестимо надолго, сокол ясный, – покачала головой попрошайка. – Во такую даль рази на день-другой поскачешь? Месяц-другой всяко пробудет. Может, более. Коли государь на службе оставит, конечно. А то и в имение свое с женой отъехать может.
– Куда?! – схватил ее за плечо Андрей.
– Ой, больно, больно, пусти! – взвыла Ксения. – Пусти, не виноватая я, он сам приехал! Откель мне знать, сколь его тут государь продержит? За службу князя все хвалят. Мыслю, назад пошлют, на воеводство. Да и сам он на покой не просится.
– Черт! – Зверев прикусил губу.
– А ты езжай, езжай касатик, – ласково попросила попрошайка. – Чего округ ходить? А ну на глаза князю попадешься? Токмо хуже будет. Съезжай пока с Москвы. Нечто дел у тебя иных нет, кроме как тут сидеть? Имение свое навести, приказчика проверь. Без хозяйского глаза оно знаешь как бывает… А возвернешься – зазноба твоя, глянь, и опять свободна окажется. Ох, как милуется после разлуки долгой, – завистливо покачала она головой, – ой, сладко милуется…
– Два месяца!
Два месяца его Людмила – единственная, желанная, ненаглядная – будет принадлежать какому-то старому хрычу, будет находиться в его лапах, в его власти, в его постели…
– Черт! – Андрей с силой ударил кулаком в тын.
Сводня испуганно втянула голову в плечи, оглянулась, закивала:
– А ты бы в кабак какой зашел, меда хмельного выпил, гусляров послушал, на скоморохов потешился. Глядишь, сердечко-то и отпустит. Да и отъехал от греха с Москвы. Кабы не сотворил чего сгоряча… Токмо хуже милой своей сделаешь.
– Сама иди!
Он снова, не чувствуя боли, врезал по тыну кулаком, после чего развернулся и стремительным шагом вырвался на улицу. Скользнул взглядом по храму, но к церкви не повернул – хватило здравомыслия не затевать скандала. Вместо этого он, вернувшись на двор боярина Кошкина, скинул ферязь и, отогнав потного подворника, принялся злобно колоть недавно привезенные из леса полусырые ольховые чурбаки.
Через три часа, после двух груженых с верхом возков, злоба наконец утихла, превратившись в глухую тоску. Желание рвать и метать отпустило – теперь ему хотелось лишь завыть от бессилия, уйти куда-нибудь прочь от посторонних глаз, от знакомых и незнакомых людей, скрыться в пустынях, чащобах и снегах, остаться в одиночестве. Хорошо быть одному – ибо отшельнику никогда не испытать подобных мук. Отшельнику не познать ни любви, ни ревности, ни злобы, ни предательства. Счастливчики…
– Кваску испей с устатку, княже. – Пахом, уже давно наблюдавший от амбара за его работой, приблизился, протянул глиняную крынку. – Воды умыться зачерпнуть али в баню пойдешь? Намедни топили, еще теплая.
– Собирайся, дядька, – принял посудину Андрей. – Уезжаем…
И он жадно припал к шипучему, пахнущему ржаным хлебом, темному напитку.
– Прям счас, что ли, Андрей Васильевич?
– Сейчас.
– Дык… Холопы отлучились, добро не увязано, тебе перед дальней дорогой попариться надобно, с хозяином попрощаться. Обидится ведь боярин Кошкин, коли пропадешь, слова не сказамши… А куда едем? Государь куда сызнова послал али своя нужда образовалась?
– Домой, – кратко ответил Зверев.
– Это, княже… – неуверенно промямлил холоп. – Домой, сиречь, в княжество? Али к отцу с матушкой поперед заглянешь?
– Домой – значит домой…
Князь Сакульский помедлил с ответом. Людмила желала, чтобы он уехал в княжество – издеваться над женой. Чтобы та от мужниных побоев и придирок в монастырь ушла. Однако видеть Полину, убившую их первенца, Звереву совсем не хотелось. Даже для того, чтобы хорошенько выпороть – как велят поступать с женами здешние обычаи.
– В Великие Луки поскачем. В Лисьино, к отцу.
– Стало быть, подарки отцу с матушкой выбирать пойдешь, Андрей Васильевич?
– По дороге куплю.
– Дык ведь Илья с Изей все едино в городе – серебро тратят, что после сечи с татар собрали. С дьяком Кошкиным еще попрощаться надобно, вещи увязать. Смеркаться скоро будет, а еще попариться надобно перед отъездом. Не грязным же в дальний путь выходить…
– Редкостный ты зануда, Пахом… – Все же разозлиться на дядьку, что воспитывал барчука с самой колыбели, учил держаться в седле и владеть оружием, что всегда был рядом, готовый закрыть собой в сече, а в миру – помочь советом, Зверев не смог. – Ладно, уболтал, в Москве переночуем. Но на рассвете тронемся! Собирайтесь.
* * *
– Доброе утро, Андрей Васильевич, рассольчику капустного не желаешь?
– Ой, мамочки… – Зверев попытался сесть, и от резкого движения немедленно со страшной силой заболела голова. Он приоткрыл глаза, осмотрелся. Деревянные струганые полати, сложенная из крупных валунов печь, бочки, котел, веники, острый запах березовых листьев и пива. – Боярин Кошкин где?
– На службу ужо с час отъехал, княже. В Земский приказ.
– Надо же… Откуда у него силы берутся чуть не каждый божий день пировать, да еще и о деле государевом помнить? А все ты, Пахом, ты виноват. Попрощаться надобно, попрощаться… – передразнил дядьку Андрей. – Обидится, дескать, хозяин. Вот, пожалуйте – «попрощались». Тебя бы на мое место!
– Дык, испей рассольчику, княже, – посоветовал холоп. – Я, как дьяк-то отъехал, зараз в погреб побежал, холодненького нацедить.
– Давай, – забрал у него Зверев запотевший серебряный кубок. – Чем вчера баню топили?
– Я уголька березового приготовил да холодца густого. Коней прикажешь ныне седлать али обождешь маненько, отдохнешь после веселья вчерашнего?
– Мы оба здесь свалились или только я?
– Оба до дома не дошли, Андрей Васильевич, – кивнул, ухмыляясь, дядька. – Ан в трапезной угощение ужо накрыто было.
– Коли оба, тогда не так обидно, – морщась от головной боли, поднялся Андрей. – Седлай. Тут только застрянь – Иван Юрьевич еще раз пять отвальную устроить не поленится. Так на этом месте и поляжем… Обожди. Воды холодной ведро набери.
Пахом три раза подряд окатил господина ледяной водой, после чего князь Сакульский несколько взбодрился, допил рассол, закусив березовым углем и плотным, как сало, холодцом, натянул приготовленную еще с вечера свежую рубаху, порты и в шлепанцах отправился в дом, в свою светелку. Спустя полчаса он вышел уже опоясанный саблей, в алой, подбитой сиреневым атласом, епанче, в мягких, облегающих ступню, словно носок, сафьяновых сапогах цвета переспелой малины и в тонких коричневых шароварах.
– Пахом! Кони оседланы?!
– Как велено, княже! – Дядька удерживал под уздцы подаренного татарами вороного Аргамака, поглаживая его по морде. Однако скакун успокаиваться не желал: пританцовывал, ходил из стороны в сторону, недовольно фыркал.
Молодые холопы уже сидели в седлах: все в атласе, в тисненых сапогах, с новыми ремнями, ровно купеческие отпрыски. Красавцы. Изольд даже проколол левое ухо и вогнал в него большую золотую серьгу. Видать, нагляделся на дворянские наряды в своей Германии. Илья его примеру не последовал: он-то знал, что на востоке серьга хуже клейма – знак ненавистного рабства. На спины трех заводных коней были навьючены узлы, скрутки, холодно поблескивали увязанные поверх барахла бердыши.
– Юрту я брать не стал, княже, – перехватив его взгляд, сказал дядька. – Здесь с дозволения боярина оставил. Дома она нам ни к чему, а коли в поход исполчат, так все едино через Москву собираться станем. Тут и прихватим.
– О чем сговаривались?! – не понял Андрей.
– Про то княгиня не сказывала. Милостыню бросила, два алтына, да пока рядом стояла, перекрестилась, пару слов лишь шепнуть успела. Сказывала, тоскует без тебя, да про жену еще.
– Вот, черт! – Зверев зло сплюнул, чуть отступил, глянул в сторону храма.
– Ой, не ходи туда, касатик! Князь Петр увидит, неладное почует. Зело ревнив князь да буен во гневе. Побьет милую твою, как есть убьет.
– Он надолго, Ксения? Когда уедет?
– Вестимо надолго, сокол ясный, – покачала головой попрошайка. – Во такую даль рази на день-другой поскачешь? Месяц-другой всяко пробудет. Может, более. Коли государь на службе оставит, конечно. А то и в имение свое с женой отъехать может.
– Куда?! – схватил ее за плечо Андрей.
– Ой, больно, больно, пусти! – взвыла Ксения. – Пусти, не виноватая я, он сам приехал! Откель мне знать, сколь его тут государь продержит? За службу князя все хвалят. Мыслю, назад пошлют, на воеводство. Да и сам он на покой не просится.
– Черт! – Зверев прикусил губу.
– А ты езжай, езжай касатик, – ласково попросила попрошайка. – Чего округ ходить? А ну на глаза князю попадешься? Токмо хуже будет. Съезжай пока с Москвы. Нечто дел у тебя иных нет, кроме как тут сидеть? Имение свое навести, приказчика проверь. Без хозяйского глаза оно знаешь как бывает… А возвернешься – зазноба твоя, глянь, и опять свободна окажется. Ох, как милуется после разлуки долгой, – завистливо покачала она головой, – ой, сладко милуется…
– Два месяца!
Два месяца его Людмила – единственная, желанная, ненаглядная – будет принадлежать какому-то старому хрычу, будет находиться в его лапах, в его власти, в его постели…
– Черт! – Андрей с силой ударил кулаком в тын.
Сводня испуганно втянула голову в плечи, оглянулась, закивала:
– А ты бы в кабак какой зашел, меда хмельного выпил, гусляров послушал, на скоморохов потешился. Глядишь, сердечко-то и отпустит. Да и отъехал от греха с Москвы. Кабы не сотворил чего сгоряча… Токмо хуже милой своей сделаешь.
– Сама иди!
Он снова, не чувствуя боли, врезал по тыну кулаком, после чего развернулся и стремительным шагом вырвался на улицу. Скользнул взглядом по храму, но к церкви не повернул – хватило здравомыслия не затевать скандала. Вместо этого он, вернувшись на двор боярина Кошкина, скинул ферязь и, отогнав потного подворника, принялся злобно колоть недавно привезенные из леса полусырые ольховые чурбаки.
Через три часа, после двух груженых с верхом возков, злоба наконец утихла, превратившись в глухую тоску. Желание рвать и метать отпустило – теперь ему хотелось лишь завыть от бессилия, уйти куда-нибудь прочь от посторонних глаз, от знакомых и незнакомых людей, скрыться в пустынях, чащобах и снегах, остаться в одиночестве. Хорошо быть одному – ибо отшельнику никогда не испытать подобных мук. Отшельнику не познать ни любви, ни ревности, ни злобы, ни предательства. Счастливчики…
– Кваску испей с устатку, княже. – Пахом, уже давно наблюдавший от амбара за его работой, приблизился, протянул глиняную крынку. – Воды умыться зачерпнуть али в баню пойдешь? Намедни топили, еще теплая.
– Собирайся, дядька, – принял посудину Андрей. – Уезжаем…
И он жадно припал к шипучему, пахнущему ржаным хлебом, темному напитку.
– Прям счас, что ли, Андрей Васильевич?
– Сейчас.
– Дык… Холопы отлучились, добро не увязано, тебе перед дальней дорогой попариться надобно, с хозяином попрощаться. Обидится ведь боярин Кошкин, коли пропадешь, слова не сказамши… А куда едем? Государь куда сызнова послал али своя нужда образовалась?
– Домой, – кратко ответил Зверев.
– Это, княже… – неуверенно промямлил холоп. – Домой, сиречь, в княжество? Али к отцу с матушкой поперед заглянешь?
– Домой – значит домой…
Князь Сакульский помедлил с ответом. Людмила желала, чтобы он уехал в княжество – издеваться над женой. Чтобы та от мужниных побоев и придирок в монастырь ушла. Однако видеть Полину, убившую их первенца, Звереву совсем не хотелось. Даже для того, чтобы хорошенько выпороть – как велят поступать с женами здешние обычаи.
– В Великие Луки поскачем. В Лисьино, к отцу.
– Стало быть, подарки отцу с матушкой выбирать пойдешь, Андрей Васильевич?
– По дороге куплю.
– Дык ведь Илья с Изей все едино в городе – серебро тратят, что после сечи с татар собрали. С дьяком Кошкиным еще попрощаться надобно, вещи увязать. Смеркаться скоро будет, а еще попариться надобно перед отъездом. Не грязным же в дальний путь выходить…
– Редкостный ты зануда, Пахом… – Все же разозлиться на дядьку, что воспитывал барчука с самой колыбели, учил держаться в седле и владеть оружием, что всегда был рядом, готовый закрыть собой в сече, а в миру – помочь советом, Зверев не смог. – Ладно, уболтал, в Москве переночуем. Но на рассвете тронемся! Собирайтесь.
* * *
– Доброе утро, Андрей Васильевич, рассольчику капустного не желаешь?
– Ой, мамочки… – Зверев попытался сесть, и от резкого движения немедленно со страшной силой заболела голова. Он приоткрыл глаза, осмотрелся. Деревянные струганые полати, сложенная из крупных валунов печь, бочки, котел, веники, острый запах березовых листьев и пива. – Боярин Кошкин где?
– На службу ужо с час отъехал, княже. В Земский приказ.
– Надо же… Откуда у него силы берутся чуть не каждый божий день пировать, да еще и о деле государевом помнить? А все ты, Пахом, ты виноват. Попрощаться надобно, попрощаться… – передразнил дядьку Андрей. – Обидится, дескать, хозяин. Вот, пожалуйте – «попрощались». Тебя бы на мое место!
– Дык, испей рассольчику, княже, – посоветовал холоп. – Я, как дьяк-то отъехал, зараз в погреб побежал, холодненького нацедить.
– Давай, – забрал у него Зверев запотевший серебряный кубок. – Чем вчера баню топили?
– Я уголька березового приготовил да холодца густого. Коней прикажешь ныне седлать али обождешь маненько, отдохнешь после веселья вчерашнего?
– Мы оба здесь свалились или только я?
– Оба до дома не дошли, Андрей Васильевич, – кивнул, ухмыляясь, дядька. – Ан в трапезной угощение ужо накрыто было.
– Коли оба, тогда не так обидно, – морщась от головной боли, поднялся Андрей. – Седлай. Тут только застрянь – Иван Юрьевич еще раз пять отвальную устроить не поленится. Так на этом месте и поляжем… Обожди. Воды холодной ведро набери.
Пахом три раза подряд окатил господина ледяной водой, после чего князь Сакульский несколько взбодрился, допил рассол, закусив березовым углем и плотным, как сало, холодцом, натянул приготовленную еще с вечера свежую рубаху, порты и в шлепанцах отправился в дом, в свою светелку. Спустя полчаса он вышел уже опоясанный саблей, в алой, подбитой сиреневым атласом, епанче, в мягких, облегающих ступню, словно носок, сафьяновых сапогах цвета переспелой малины и в тонких коричневых шароварах.
– Пахом! Кони оседланы?!
– Как велено, княже! – Дядька удерживал под уздцы подаренного татарами вороного Аргамака, поглаживая его по морде. Однако скакун успокаиваться не желал: пританцовывал, ходил из стороны в сторону, недовольно фыркал.
Молодые холопы уже сидели в седлах: все в атласе, в тисненых сапогах, с новыми ремнями, ровно купеческие отпрыски. Красавцы. Изольд даже проколол левое ухо и вогнал в него большую золотую серьгу. Видать, нагляделся на дворянские наряды в своей Германии. Илья его примеру не последовал: он-то знал, что на востоке серьга хуже клейма – знак ненавистного рабства. На спины трех заводных коней были навьючены узлы, скрутки, холодно поблескивали увязанные поверх барахла бердыши.
– Юрту я брать не стал, княже, – перехватив его взгляд, сказал дядька. – Здесь с дозволения боярина оставил. Дома она нам ни к чему, а коли в поход исполчат, так все едино через Москву собираться станем. Тут и прихватим.