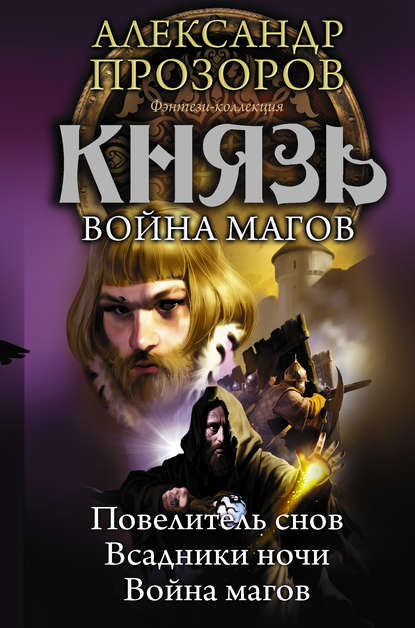По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Князь. Война магов (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почему-то сразу захотелось слопать большую бычью башку: оттяпать уши, ровно нарезать язык, вычерпать вареные мозги, зажевать шершавым носом. Но князь Сакульский сдержался и ограничил себя лишь целиком запеченными перепелками с хрустящими ребрышками. Закончил он ужин столь банальной, но давно не встречаемой им на застольях селедочкой, жирной и влажной, присыпанной колечками репчатого лука и чуть сдобренной анисовым маслом. К этому времени третий кувшин подходил к концу, и глаза хозяина, уставшего за день не меньше гостя, заметно осоловели.
– Нам ведь поутру во дворец, – вспомнил боярин. – Стало быть, надобно и поспать маненько. Эй, Осип! Ты это… Настюху сюда позови. Бо гостю моему самому тяжело искать будет.
Когда же в трапезную прибежала служанка лет двадцати, рыжая и конопатая, в платочке на волосах и легком сарафане, Кошкин распорядился:
– Светелка княжеская… Ну ты знаешь. Ты это, проводи гостя, посвети там ему. Проверь, чтобы все лепо там…
– Сделаю, батюшка боярин, – поклонилась холопка и взяла со стола трехрожковый подсвечник.
Вслед за ней Зверев опять долго петлял по коридорам, все более убеждаясь в том, что сам поутру выбраться из этого лабиринта не сможет, потом по витой лестнице поднялся на третий этаж. Дверь в конце ступеней открывалась прямо в выстеленную коврами комнату с двумя сундуками, небольшим столом, пюпитром, парой скамей и широкой постелью под балдахином.
Поставив подсвечник на стол, девка сложила покрывало и принялась старательно расправлять постель, взбивать подушки – не просто повернувшись к князю своими ягодицами, но еще и постоянно ими виляя. Андрей, не стерпев такого грубиянства, подошел ближе, крепко сжал руками выставленные округлости. Настя на это как-то совсем не отреагировала, продолжила заниматься своим делом, лишь замедлила немного движения. Зверев слегка приподнял подол сарафана, снизу вверх провел по ногам ладонями, а потом просто развернул холопку и опрокинул ее на спину. Служанка закинула голову и с готовностью отдалась княжеским ласкам.
* * *
В палате царского дворца, с золотыми цветами по красным стенам, украшенной гербами русских княжеств, Зверев неожиданно встретил немало знакомых. Многие его побратимы стояли здесь у дверей в белых с золотом кафтанах, в золотых поясах с золотым же оружием. Но те находились на службе – не поболтаешь. Вскинул брови у дальней стены пронырливый барон Тюрго, почтительно склонил голову – но подходить не стал. А вот князь Воротынский шумно обрадовался Андрею. Отставив посох, обнял, посетовал:
– Что-то давно не видывал тебя, отважный отрок! Не зайдешь, боярин, не поклонишься, доброго слова не скажешь. Али забыл, кто за тебя пред государем поручился? Нехорошо, боярин…
– Князь, Михайло Иванович, князь, – поправил думного боярина Андрей.
– Да ну? – чуть отодвинулся Воротынский. – Когда успел?
– На княгине Полине Сакульской год назад женился.
– А-а, ну так дело молодое, – хлопнул его по плечам Михаил Иванович. – Прощаю! Но завтра же, завтра у себя жду! Тут никаких оправданий знать не хочу!
– В отъезде я был, – наконец смог вставить оправдательное слово Зверев. – Не московский я служилый человек, наездами здесь…
– Ничего не хочу знать! – замотал головой Воротынский. – Завтра к обеду жду!
Едва вырвавшись из сильных рук Михаила Ивановича, Зверев увидел неподалеку облаченного в богатую шубу с золотым шитьем и множеством самоцветов князя Старицкого в окружении новгородской свиты. Теперь уже Андрей расплылся в довольной улыбке и отвесил приторно-красочный поклон с разведением рук и изгибанием шеи: что, мол, не чаяли живым увидеть? Надеялись с высоты царского трона известие о безвременной кончине получить? А вот чижика вам пернатого! Пятнадцатилетний мальчишка на поклон невозмутимо ответил. Может, и не заметил скрытой издевки. Однако его остроносый боярин предпочел князя Сакульского вовсе не узнать.
Наконец распахнулись резные двери, в палаты в сопровождении нескольких бояр ступил царь. Голову его венчала отороченная кротом тафья, сплошь усыпанная каменьями и простеганная золотым шитьем, с золотым крестиком посередине. Вместо жаркой московской шубы на плечах лежал – поверх ферязи, отделанной в том же стиле, что и тюбетейка, – тонкий халат, пусть и подбитый соболем да бобром и украшенный с присущей русской казне щедростью. Умеет устроиться государь, налегке решил службу отстоять! В свите Иоанна Андрей заметил боярина Кошкина, идущего чуть позади прочих царедворцев.
– Брат мой, Владимир Андреевич! – милостиво улыбнулся правитель, вырвал из толпы юного князя Старицкого, троекратно облобызал, притянул к себе, поставил по правую руку. – Здрав будь, князь Евлампий Федотович, здрав будь, князь Сергей Юрьевич, здрав будь, Михаил Иванович…
С прочими гостями он уже не целовался, а просто раскланивался. Неожиданно боярин Кошкин двинулся вперед, сквозь царскую свиту, что-то зашептал государю на ухо…
– Андрей Лисьин? Князь Сакульский? – заулыбавшись, забегал он глазами по залу.
Зверев решительно двинулся из задних рядов вперед:
– Всегда рад служить тебе, государь!
Толпа, повинуясь взгляду Иоанна Васильевича, раздвинулась, пропуская особо выделенного гостя, и вскоре Андрей смог склонить голову перед царем:
– Долгих лет тебе, государь, и здоровья крепкого. Хочу поблагодарить тебя…
– Знаю, знаю, – остановил его юный правитель. – За отвагу не карают и платы за нее не требуют. Что дадено – пусть твоим остается. О, вижу, мой подарок ты хранишь? А другими перстнями так и не разжился.
– Не нашел достойных, государь. Разве какой иной способен сравниться с царским?
– Гладко сказываешь, боярин, – покачал головой безусый царь. – Видать, ты не токмо рубака отменный, но и… Вот, держи. Негоже князьям моим, ровно монахам-отшельникам, с голыми пальцами ходить. И при мне будь. Давно не видел, перемолвиться хочу.
И правитель сдвинул его вправо, ставя на место князя Старицкого. Зверев, не желая ссоры с царским родичем, при первой возможности ушел за него, вернув самое почетное место рядом с Иоанном его двоюродному брату, но скрыть жест правителя от десятков внимательных глаз все равно уже не мог. Посмотрел на второй, подаренный властителем Руси, перстень, оглянулся на Ивана Юрьевича. Дьяк только пожал плечами: раз царь желает видеть тебя рядом – против его воли не повернешь.
Тонко зазвучали колокольчики, распахнулась дверь напротив царской. Вся в белом вышла царица, тоже окруженная многими тетками и девками, двинулась навстречу царю. Посередь палаты они торжественно троекратно расцеловались, супруга встала от Иоанна слева, и вся процессия двинулась на службу. Едва царственная чета ступила на улицу, Зверев вздрогнул от колокольного звона, оглянулся. Дьяк Кошкин уже смылся. А ему, похоже, предстояло стоять всю литургию от начала и до конца.
Следует признать, богослужение было торжественным и красочным: хор, раскатистый голос дьякона, богатая отделка собора. Но уж очень внутри было душно – не столько из-за обилия людей, сколько из-за количества горящих свечей, кадил и лампад. Дым, смешивающиеся запахи благовоний, человеческого пота, дыхания… И потом, длилось это уж слишком долго. Часа два, не менее.
После богослужения гостям был дан короткий «пир»: хлеб и вода. Причем хлеб не мягкий, а слегка зачерствевший – Андрей попробовал. Но больше всего его огорчила не скудость угощения: пост есть пост, – а то, что и царица Анастасия вместе со всеми скромненько жевала черствую корочку, запивая ее колодезной водой. Между тем Бог, как известно, беременных и недужных от воздержания в пище освобождает. Раз правительница постится – значит, наследника в ближайшие месяцы ждать не стоит. И факт этот принял к сведению, скорее всего, не один Зверев.
Покончив со своей краюхой, поднялась из-за богатого – не угощением, увы, а убранством – стола царица. Поклонилась супругу, поблагодарила за милость и уплыла в окружении теток и девок: шевеления ног под пышными юбками не видно, только плавное перемещение гордо вскинувшей подбородок красавицы. Затем встал и поклонился гостям сам Иоанн. Поздравлять никого не стал: какое там поздравление, коли день, с одной стороны, павших воинов поминовения, с другой – казни святого первокрестителя. Тут скорее горевать в голос надобно.
Андрей уж было решил, что его муки кончились – ан нет. Государь положил руку ему на плечо. Значит, надо идти. Правитель Руси дважды приглашать не станет.
Сопровождаемые двумя рындами, Иоанн и Зверев поднялись сразу за трапезной по металлической лестнице на этаж выше, после чего телохранители остались у дверей, а гость и хозяин дворца пошли дальше.
Здесь, видимо, находились личные покои государя: несколько светелок, горница, сразу две спальни, судя по балдахинам за дверьми. Спальни, разумеется, не семейные. По древним обычаям, царица жила на «женской» половине дворца, охраняемой от чужих глаз не хуже, чем гарем какого-нибудь персидского падишаха. Отец родной жены царской к ней попасть не мог, только мать. Чего уж еще говорить? Посему «для слияния двух сердец» помещения существовали особые, ближе к женской половине. И хорошо, если эта часть жизни государя обходилась без отдельных предписаний, законов и контролирующих всю правильность процесса наблюдателей.
– Нехорошо мы с тобой о прошлом разе расстались, боярин Лисьин, нехорошо, – плотно сжал губы Иоанн. – Своеволен ты больно, дерзок. Никого не слушаешь, все по-своему заворачиваешь. Ни приказов, ни старцев мудрых, ни князей старших понимать не желаешь. Однако же часто последний год я вспоминать тебя стал, боярин…
Поправлять царя Зверев не стал. Не хочет называть князем – ну и пусть. Начнешь возмущаться – так ведь, чего доброго, и вправду обратно боярином заделает.
– Ты тогда умчался, боярин Андрей, когда я на тебя гнев свой обрушил, – продолжал вспоминать Иоанн. – За то, что указа моего твердого ты не исполнил. И потому главного самого ты не услышал. Со ступеней дворца своего в Александровской слободе поклялся я людям о горестях их вперед своих думать. Поклялся, что отныне я судья их и защитник. Тут же на месте повелел постельничему, вот своему боярину Алексею Адашеву, принимать челобитные от бедных, сирот, от обиженных.
Худощавый, бледный, с тонкими бровями и горящим взглядом мужчина в монашеской одежде оторвал взгляд от свитка, кивнул.
Андрей с государем уже успел войти в горницу, и Зверев поразился тому, как много здесь свалено грамот, сложенных пополам листиков, цилиндрических туесков. Они лежали между сундуками, на полках, под скамьями, выпирали между створками шкафа. Видимо, поначалу корреспонденцию пытались складывать аккуратно, но очень быстро для наведения порядка перестало хватать места.
– Духовник еще мой помогать взялся, отец Сильвестр, – сказал царь. – Ему доверяю. Он по совести разрешить может моим именем. Алексею верю, вижу как к сердцу беды людские принимает. Ну и сам. Поклялся ведь справедливость каждому дать, рассудить все по чести, по совести. Стараюсь. Да не успеваю ничего, боярин, никак. Одно письмо прочесть успеешь – ан еще десять приносят. Один указ издашь – еще сто ответов дать уже потребно. Мыслил еще людей на помощь призвать, мудрых, честных: а где взять? Что ни извет открываешь – на воевод жалятся, что в суде их нет справедливости ни на един гран. Кто по знакомству судит, кто по злобе, кто за того, что подарки богатые принес, решение принимает. И как тут быть? Сидят в приказах Поместном, Разбойном, Разрядном дьяки старательные, воевод на места выбирают самых разумных и честных. А как на место те садятся – ну ровно подменяет их кто. Опасаюсь, себе помощников наберу – и с жалобами слезными то же случится, что и на погостах и весях. Не станет и в моем суде совести, справедливости. И что тогда люди скажут? Кому верить, на кого надеяться? Посему сам и читаю с друзьями ближними.
– Это верно, – признал Андрей, прогуливаясь по горнице, чуть не по пояс заполненной овеществленным человеческим плачем. – Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
– Не успеваю сам. Дня не хватает, сна не хватает, сил не хватает, терпения. Чую часто, что гнев, а не сострадание к несчастным испытываю.
– Гнев – плохой советчик, – ожидая продолжения, кивнул Зверев. – Я бы, наверное, уже на второй день такой работы голову кому-нибудь бы отрубил. Скорее всего, почтальону.
– Посему тебя и вспоминал, боярин. Все гадал: а чтобы этот дерзкий и быстрый сделал? Как бы узел Гордиев разрубил, чтобы и справедливость была, и силы не все до капельки на нее тратились?
– Ты ищешь правды, государь, или жалости? – повернулся к Иоанну Андрей.
– Ты о чем молвишь, боярин? – склонил голову набок юный царь.
– Жалость в том, что труд потрачен огромный, государь, что безмерно в нем любви к людям, старания и самоотверженности. А правда в том, что все это ерунда, мусор, помойка, полный и никому не нужный хлам. – Зверев подобрал несколько свитков и небрежно подбросил вверх.
– Да как у тебя язык повернулся, боярин?! – моментально вскипел Иоанн. – Это же слезы, это чаяния людские, это надежда их последняя на справедливость царскую.
– Нам ведь поутру во дворец, – вспомнил боярин. – Стало быть, надобно и поспать маненько. Эй, Осип! Ты это… Настюху сюда позови. Бо гостю моему самому тяжело искать будет.
Когда же в трапезную прибежала служанка лет двадцати, рыжая и конопатая, в платочке на волосах и легком сарафане, Кошкин распорядился:
– Светелка княжеская… Ну ты знаешь. Ты это, проводи гостя, посвети там ему. Проверь, чтобы все лепо там…
– Сделаю, батюшка боярин, – поклонилась холопка и взяла со стола трехрожковый подсвечник.
Вслед за ней Зверев опять долго петлял по коридорам, все более убеждаясь в том, что сам поутру выбраться из этого лабиринта не сможет, потом по витой лестнице поднялся на третий этаж. Дверь в конце ступеней открывалась прямо в выстеленную коврами комнату с двумя сундуками, небольшим столом, пюпитром, парой скамей и широкой постелью под балдахином.
Поставив подсвечник на стол, девка сложила покрывало и принялась старательно расправлять постель, взбивать подушки – не просто повернувшись к князю своими ягодицами, но еще и постоянно ими виляя. Андрей, не стерпев такого грубиянства, подошел ближе, крепко сжал руками выставленные округлости. Настя на это как-то совсем не отреагировала, продолжила заниматься своим делом, лишь замедлила немного движения. Зверев слегка приподнял подол сарафана, снизу вверх провел по ногам ладонями, а потом просто развернул холопку и опрокинул ее на спину. Служанка закинула голову и с готовностью отдалась княжеским ласкам.
* * *
В палате царского дворца, с золотыми цветами по красным стенам, украшенной гербами русских княжеств, Зверев неожиданно встретил немало знакомых. Многие его побратимы стояли здесь у дверей в белых с золотом кафтанах, в золотых поясах с золотым же оружием. Но те находились на службе – не поболтаешь. Вскинул брови у дальней стены пронырливый барон Тюрго, почтительно склонил голову – но подходить не стал. А вот князь Воротынский шумно обрадовался Андрею. Отставив посох, обнял, посетовал:
– Что-то давно не видывал тебя, отважный отрок! Не зайдешь, боярин, не поклонишься, доброго слова не скажешь. Али забыл, кто за тебя пред государем поручился? Нехорошо, боярин…
– Князь, Михайло Иванович, князь, – поправил думного боярина Андрей.
– Да ну? – чуть отодвинулся Воротынский. – Когда успел?
– На княгине Полине Сакульской год назад женился.
– А-а, ну так дело молодое, – хлопнул его по плечам Михаил Иванович. – Прощаю! Но завтра же, завтра у себя жду! Тут никаких оправданий знать не хочу!
– В отъезде я был, – наконец смог вставить оправдательное слово Зверев. – Не московский я служилый человек, наездами здесь…
– Ничего не хочу знать! – замотал головой Воротынский. – Завтра к обеду жду!
Едва вырвавшись из сильных рук Михаила Ивановича, Зверев увидел неподалеку облаченного в богатую шубу с золотым шитьем и множеством самоцветов князя Старицкого в окружении новгородской свиты. Теперь уже Андрей расплылся в довольной улыбке и отвесил приторно-красочный поклон с разведением рук и изгибанием шеи: что, мол, не чаяли живым увидеть? Надеялись с высоты царского трона известие о безвременной кончине получить? А вот чижика вам пернатого! Пятнадцатилетний мальчишка на поклон невозмутимо ответил. Может, и не заметил скрытой издевки. Однако его остроносый боярин предпочел князя Сакульского вовсе не узнать.
Наконец распахнулись резные двери, в палаты в сопровождении нескольких бояр ступил царь. Голову его венчала отороченная кротом тафья, сплошь усыпанная каменьями и простеганная золотым шитьем, с золотым крестиком посередине. Вместо жаркой московской шубы на плечах лежал – поверх ферязи, отделанной в том же стиле, что и тюбетейка, – тонкий халат, пусть и подбитый соболем да бобром и украшенный с присущей русской казне щедростью. Умеет устроиться государь, налегке решил службу отстоять! В свите Иоанна Андрей заметил боярина Кошкина, идущего чуть позади прочих царедворцев.
– Брат мой, Владимир Андреевич! – милостиво улыбнулся правитель, вырвал из толпы юного князя Старицкого, троекратно облобызал, притянул к себе, поставил по правую руку. – Здрав будь, князь Евлампий Федотович, здрав будь, князь Сергей Юрьевич, здрав будь, Михаил Иванович…
С прочими гостями он уже не целовался, а просто раскланивался. Неожиданно боярин Кошкин двинулся вперед, сквозь царскую свиту, что-то зашептал государю на ухо…
– Андрей Лисьин? Князь Сакульский? – заулыбавшись, забегал он глазами по залу.
Зверев решительно двинулся из задних рядов вперед:
– Всегда рад служить тебе, государь!
Толпа, повинуясь взгляду Иоанна Васильевича, раздвинулась, пропуская особо выделенного гостя, и вскоре Андрей смог склонить голову перед царем:
– Долгих лет тебе, государь, и здоровья крепкого. Хочу поблагодарить тебя…
– Знаю, знаю, – остановил его юный правитель. – За отвагу не карают и платы за нее не требуют. Что дадено – пусть твоим остается. О, вижу, мой подарок ты хранишь? А другими перстнями так и не разжился.
– Не нашел достойных, государь. Разве какой иной способен сравниться с царским?
– Гладко сказываешь, боярин, – покачал головой безусый царь. – Видать, ты не токмо рубака отменный, но и… Вот, держи. Негоже князьям моим, ровно монахам-отшельникам, с голыми пальцами ходить. И при мне будь. Давно не видел, перемолвиться хочу.
И правитель сдвинул его вправо, ставя на место князя Старицкого. Зверев, не желая ссоры с царским родичем, при первой возможности ушел за него, вернув самое почетное место рядом с Иоанном его двоюродному брату, но скрыть жест правителя от десятков внимательных глаз все равно уже не мог. Посмотрел на второй, подаренный властителем Руси, перстень, оглянулся на Ивана Юрьевича. Дьяк только пожал плечами: раз царь желает видеть тебя рядом – против его воли не повернешь.
Тонко зазвучали колокольчики, распахнулась дверь напротив царской. Вся в белом вышла царица, тоже окруженная многими тетками и девками, двинулась навстречу царю. Посередь палаты они торжественно троекратно расцеловались, супруга встала от Иоанна слева, и вся процессия двинулась на службу. Едва царственная чета ступила на улицу, Зверев вздрогнул от колокольного звона, оглянулся. Дьяк Кошкин уже смылся. А ему, похоже, предстояло стоять всю литургию от начала и до конца.
Следует признать, богослужение было торжественным и красочным: хор, раскатистый голос дьякона, богатая отделка собора. Но уж очень внутри было душно – не столько из-за обилия людей, сколько из-за количества горящих свечей, кадил и лампад. Дым, смешивающиеся запахи благовоний, человеческого пота, дыхания… И потом, длилось это уж слишком долго. Часа два, не менее.
После богослужения гостям был дан короткий «пир»: хлеб и вода. Причем хлеб не мягкий, а слегка зачерствевший – Андрей попробовал. Но больше всего его огорчила не скудость угощения: пост есть пост, – а то, что и царица Анастасия вместе со всеми скромненько жевала черствую корочку, запивая ее колодезной водой. Между тем Бог, как известно, беременных и недужных от воздержания в пище освобождает. Раз правительница постится – значит, наследника в ближайшие месяцы ждать не стоит. И факт этот принял к сведению, скорее всего, не один Зверев.
Покончив со своей краюхой, поднялась из-за богатого – не угощением, увы, а убранством – стола царица. Поклонилась супругу, поблагодарила за милость и уплыла в окружении теток и девок: шевеления ног под пышными юбками не видно, только плавное перемещение гордо вскинувшей подбородок красавицы. Затем встал и поклонился гостям сам Иоанн. Поздравлять никого не стал: какое там поздравление, коли день, с одной стороны, павших воинов поминовения, с другой – казни святого первокрестителя. Тут скорее горевать в голос надобно.
Андрей уж было решил, что его муки кончились – ан нет. Государь положил руку ему на плечо. Значит, надо идти. Правитель Руси дважды приглашать не станет.
Сопровождаемые двумя рындами, Иоанн и Зверев поднялись сразу за трапезной по металлической лестнице на этаж выше, после чего телохранители остались у дверей, а гость и хозяин дворца пошли дальше.
Здесь, видимо, находились личные покои государя: несколько светелок, горница, сразу две спальни, судя по балдахинам за дверьми. Спальни, разумеется, не семейные. По древним обычаям, царица жила на «женской» половине дворца, охраняемой от чужих глаз не хуже, чем гарем какого-нибудь персидского падишаха. Отец родной жены царской к ней попасть не мог, только мать. Чего уж еще говорить? Посему «для слияния двух сердец» помещения существовали особые, ближе к женской половине. И хорошо, если эта часть жизни государя обходилась без отдельных предписаний, законов и контролирующих всю правильность процесса наблюдателей.
– Нехорошо мы с тобой о прошлом разе расстались, боярин Лисьин, нехорошо, – плотно сжал губы Иоанн. – Своеволен ты больно, дерзок. Никого не слушаешь, все по-своему заворачиваешь. Ни приказов, ни старцев мудрых, ни князей старших понимать не желаешь. Однако же часто последний год я вспоминать тебя стал, боярин…
Поправлять царя Зверев не стал. Не хочет называть князем – ну и пусть. Начнешь возмущаться – так ведь, чего доброго, и вправду обратно боярином заделает.
– Ты тогда умчался, боярин Андрей, когда я на тебя гнев свой обрушил, – продолжал вспоминать Иоанн. – За то, что указа моего твердого ты не исполнил. И потому главного самого ты не услышал. Со ступеней дворца своего в Александровской слободе поклялся я людям о горестях их вперед своих думать. Поклялся, что отныне я судья их и защитник. Тут же на месте повелел постельничему, вот своему боярину Алексею Адашеву, принимать челобитные от бедных, сирот, от обиженных.
Худощавый, бледный, с тонкими бровями и горящим взглядом мужчина в монашеской одежде оторвал взгляд от свитка, кивнул.
Андрей с государем уже успел войти в горницу, и Зверев поразился тому, как много здесь свалено грамот, сложенных пополам листиков, цилиндрических туесков. Они лежали между сундуками, на полках, под скамьями, выпирали между створками шкафа. Видимо, поначалу корреспонденцию пытались складывать аккуратно, но очень быстро для наведения порядка перестало хватать места.
– Духовник еще мой помогать взялся, отец Сильвестр, – сказал царь. – Ему доверяю. Он по совести разрешить может моим именем. Алексею верю, вижу как к сердцу беды людские принимает. Ну и сам. Поклялся ведь справедливость каждому дать, рассудить все по чести, по совести. Стараюсь. Да не успеваю ничего, боярин, никак. Одно письмо прочесть успеешь – ан еще десять приносят. Один указ издашь – еще сто ответов дать уже потребно. Мыслил еще людей на помощь призвать, мудрых, честных: а где взять? Что ни извет открываешь – на воевод жалятся, что в суде их нет справедливости ни на един гран. Кто по знакомству судит, кто по злобе, кто за того, что подарки богатые принес, решение принимает. И как тут быть? Сидят в приказах Поместном, Разбойном, Разрядном дьяки старательные, воевод на места выбирают самых разумных и честных. А как на место те садятся – ну ровно подменяет их кто. Опасаюсь, себе помощников наберу – и с жалобами слезными то же случится, что и на погостах и весях. Не станет и в моем суде совести, справедливости. И что тогда люди скажут? Кому верить, на кого надеяться? Посему сам и читаю с друзьями ближними.
– Это верно, – признал Андрей, прогуливаясь по горнице, чуть не по пояс заполненной овеществленным человеческим плачем. – Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
– Не успеваю сам. Дня не хватает, сна не хватает, сил не хватает, терпения. Чую часто, что гнев, а не сострадание к несчастным испытываю.
– Гнев – плохой советчик, – ожидая продолжения, кивнул Зверев. – Я бы, наверное, уже на второй день такой работы голову кому-нибудь бы отрубил. Скорее всего, почтальону.
– Посему тебя и вспоминал, боярин. Все гадал: а чтобы этот дерзкий и быстрый сделал? Как бы узел Гордиев разрубил, чтобы и справедливость была, и силы не все до капельки на нее тратились?
– Ты ищешь правды, государь, или жалости? – повернулся к Иоанну Андрей.
– Ты о чем молвишь, боярин? – склонил голову набок юный царь.
– Жалость в том, что труд потрачен огромный, государь, что безмерно в нем любви к людям, старания и самоотверженности. А правда в том, что все это ерунда, мусор, помойка, полный и никому не нужный хлам. – Зверев подобрал несколько свитков и небрежно подбросил вверх.
– Да как у тебя язык повернулся, боярин?! – моментально вскипел Иоанн. – Это же слезы, это чаяния людские, это надежда их последняя на справедливость царскую.