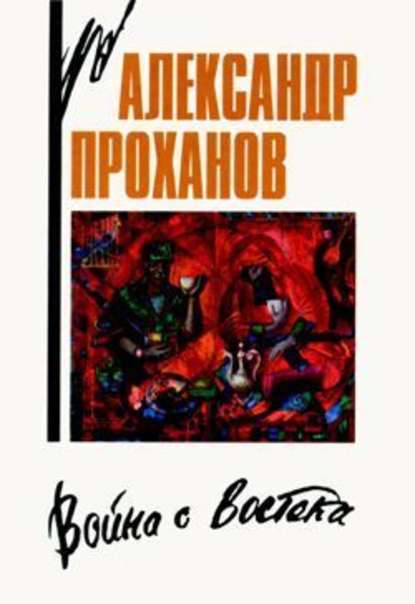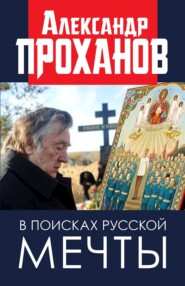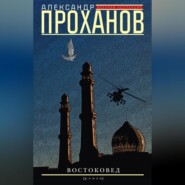По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон о Кабуле
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Признак одряхления и ветхости. Контуры будущих черепков и осколков.
Уже далеко за спиной была мутная полноводная Амударья, рыжая, взбаламученная, со множеством несущихся голубых воронок и вихрей. Остался за спиной афганский порт Хайратон, к которому причалили паромы, груженные тракторами. Синие, сверкающие стеклами машины катили одна задругой по бетонной трассе, среди осыпей, холмов, сухих, озаренных холодным солнцем предгорьев. В голове колонны двигался авангард «бэтээров», длинных, плавных, с торчащими пулеметами. Колонну замыкала вторая бронегруппа с командирской машиной, на которой вместе с подполковником Мартыновым поместились Нил Тимофеевич, Сайд Исмаил, Белосельцев, белобрысый, в танковом шлеме механик-водитель и чернявый стрелок, рассматривающий в прицел горбатые, похожие на верблюдов, холмы.
Белосельцев сидел на броне, свесив ноги в глубокий люк. Чувствовал, как ровно давит на грудь встречный ветер, расширяет и высветляет глаза. Перегороженный черным стволом пулемета, двигался вокруг яркий разноцветный мир, удивлявший своими картинами. Белосельцев, упиваясь волей, радуясь зоркости и свежести чувств, выхватывал из этого мира драгоценные впечатления. Не разглядывал их подолгу, а, оставляя на потом, прятал поглубже в память, чтобы после, может быть, вечером, или через день, или в старости, снова их оттуда извлечь. Сладостно и подробно рассматривать, восхищаясь их драгоценной неповторимостью.
По встречной полосе бетонки накатывал грузовик, с хромированным радиатором, зеркальным лобовым стеклом, за которым сидел темнолицый, в белой чалме водитель. Кузов грузовика был надстроен, превращен в высокий деревянный фургон, покрыт множеством разноцветных рисунков – растений, цветов, животных и птиц, мечетей и зданий, корабликов и самолетов. Рука художника, водившая кистью, была веселой, неутомимой на выдумки. Словно ребенок украсил грузовик переводными картинками. Кабина грузового «мерседеса», созданного на современных конвейерах Германии, была украшена восточной бахромой с кистями, стеклянными и металлическими подвесками, напоминавшими елочные игрушки. Над кабиной мигали разноцветные лампочки, машина напоминала новогоднюю елку или цирковую декорацию. Казалось, в фургоне спрятаны акробаты и фокусники. Доберутся до нужного места, раскроют борта фургона, и из него на потеху и забаву людям высыпят жонглеры, канатоходцы, дрессировщики. Замигают огни, заиграет музыка. Под переливы свирели из длинного кувшина покажется, заструится, заколеблет маленькой головкой чешуйчатая змея.
Все это успел разглядеть и пережить Белосельцев, пока нарядный грузовик пролетал мимо, распахивая шумную солнечную волну ветра. И видимо, лицо его было таким восхищенным, наивным, что сидевший рядом Сайд Исмаил заулыбался, понимая его радость, благодарный ему за это радостное восхищение, вызванное встречей с афганским дивом.
– Такой грузовик делает в Пакистан. Там хороший художник, рисует весь грузовик! – сказал он, коверкая слова своими мягкими сиреневыми губами, словно держал в этих губах вкусный и сочный плод. Белосельцев кивнул, оглядываясь вслед исчезавшей машине, за которой тянулся шлейф разноцветного воздуха, как прозрачная бахрома, из Пакистана, сквозь ущелья и перевалы, неся в себе таинственные звуки и краски иных народов и стран.
За обочиной на бугре возникло сооружение, напоминавшее разрушенную глиняную печь или заброшенный, размытый дождями термитник. Рыжий запекшийся купол с круглыми отверстиями, изъеденные ветром, шершавые стены, окаменелая, с изглоданным верхом изгородь. Сооружение казалось мертвым, необитаемым, но из невидимой дыры вяло струился дым, сладко пахнуло горящей сосной, яркой лазурью вспыхнул драгоценный, вмазанный в купол изразец. По краю дороги к жилищу двигалось малое стадо белых коз, подгоняемое мальчиком с хворостиной. Проезжая мимо, Белосельцев успел разглядеть костлявые козьи спины, шитую бисером шапочку на круглой голове мальчика, его блестящие веселые глаза, ветхое рубище на щуплых плечах и босые грязные ноги, семенившие по бетону.
Советник Нил Тимофеевич, уцепившись за выступ брони, одолевая ветер, сказал Белосельцеву:
– Бедность-то какая! Зима, а он, родненький, босиком шлепает! На обувку денег нет. Разве сравнишь с Союзом! – Белосельцеву в этих словах показалось искреннее сочувствие к мальчику и острое любопытство к стране, куда его, томского инженера, забросила судьба. Непонимание этой страны, бессознательное над ней превосходство и невыраженное, невольное самоутверждение этого крепкого, сытого мужчины, делегированного могучей державой в отсталое захолустье, пролетающего сквозь это захолустье на скоростной военной машине.
В стороне от дороги, на склоне холма, стояли боевые машины пехоты, развевался красный флажок. Солдаты в панамах рыли траншеи, таскали бревна и доски. Остановились, оглядываясь на проходившую колонну, и Белосельцев издали старался разглядеть их молодые русские лица, бортовые номера машин, надпись лозунга, укрепленного на дощатом сооружении.
– Застава, – пояснил подполковник Мартынов. – Обустраиваются, утепляются. Сюда дрова и те из Союза забрасываем. Ничего, обживемся. Военные городки построим, пятиэтажки, деревья посадим, жен привезем. Куца Советская Армия приходит, там культура, порядок.
Он по-хозяйски оглядывал проплывавшую мимо заставу, и в его бодром и строгом взгляде Белосельцеву почувствовалось все то же удовлетворение и превосходство сильного, оснащенного человека, оказавшегося, по приказу командования, среди первобытной земли, осчастливливая и очеловечивая эти каменные холмы и отроги.
Все они, сидящие на граненой броне, ухватившись за скобы и выступы, были под покровительством и защитой оставшейся сзади страны, посылавшей им свои силы, направлявшей их, каждого со своими заданием и ролью, в азиатские тревожные дали.
Дорога широкими дугами и поворотами подымалась выше и выше. Склоны по сторонам становились все круче. Небо остывало и леденело. Солнце, опускаясь к вершинам, наливалось краснотой и медью. На синий асфальт ложились фиолетовые тени, солнце на мгновение гасло за кручей, щекам становилось холодно от твердого, летевшего с перевала ветра, а потом из-за горы снова вылетало медно-красное солнце, брызгало негреющими лучами.
Белосельцев, поворачивая лицо во все стороны, изумлялся и восхищался происходившим вокруг переменам. Далекая тусклая гора загоралась вдруг нежным зеленым светом, словно на нее из вечерних небес слетал ангел. Держал в руках изумрудный светильник, подымал его над собой, освещая склон. На соседнюю гору слетал розовый ангел, бесшумный, прозрачный, в развевающихся одеждах. В его руке качался розовый светильник, озарял вершину нежным стеклянным светом, от которого черный и грубый камень становился ледяным и прозрачным. Третий ангел, золотой, опускался на острый пик, колебался на нем, превращал его в слиток золота, и это золото текло по склонам, его становилось все больше и больше, и навстречу ему уже летел голубой дивный ангел, усаживался на темный утес. Горы пламенели, переливались, гасли и вновь загорались, словно ангелы перелетали с вершины на вершину, менялись местами, освещали друг друга светильниками, подавали друг другу знаки. Их полет, их игра, их таинственное появление на исходе дня изумляло Белосельцева. Они не замечали людей, были заняты только собой, танцевали в каменеющих меркнущих небесах. Вдруг все разом взлетели и исчезли, скрылись за туманным гребнем. Лишь одна островерхая далекая гора тлела малиновым светом, словно ангел на ней задержался, превратил ее в остывающий уголь.
Белосельцев беззвучно молил, чтобы ангел не улетал, обратил на него внимание, склонил к нему дивный лик. Поведал, что ждет его в чужой азиатской стране. Сохранил и сберег среди странствий. Гора погасла. Ангел ее покинул. «Бэтээр», шелестя колесами, мчался в темных горах.
Глава четвертая
Они остановились на ночлег у одной из придорожных застав. Расставили трактора по обочинам, под охраной пулеметов и пушек. Водители-афганцы вырыли лунки в земле, запалили неяркие камельки. Кипятили воду, ломали хлеб. В свете красноватых огней были видны их крупные носы, черные бороды, длинные осторожные пальцы, передающие хлеб.
Мартынов приказал солдатам вскипятить воду. Сидя на бушлате у резинового колеса «бэтээра», они жевали галеты, запивали кипятком, согревали свои застывшие на ночных сквозняках тела. Их сблизили эти сотни километров, проделанных по афганской земле. Сайд Исмаил был хозяин, но одновременно и гость, чувствовал свою зависимость от пулеметов, от запыленной брони, от глазастых, мерцавших в темноте тракторов. Белосельцев угадывал эту зависимость, и ему было неловко. Хотел исправить эту неловкость сердечным словом.
– У вас есть семья, дорогой Сайд Исмаил? Вас, наверное, ждут и волнуются?
– Мой семья Герат. Жена, две дочки и сын. Очень хороший девочка, мальчик. Давно не видал. Давно не ездил Герат.
– Хочу побывать в Герате. Много читал, видел фотографии крепости, Пятницкой мечети, мазара Алишера Навои!
– Герат хороший, красивый! – заулыбался Сайд Исмаил, благодарный Белосельцеву за возможность произносить имя родного города. – Поедем с вами Герат. Будете мой гость, самый дорогой. Когда я был Союз, был ваш гость. Очень хорошо относились. Советский люди хороший. Плохо говорю по-русски! – он виновато улыбался, показывая на свои оленьи сиреневые губы, и Белосельцев был доволен тем, что сделал афганцу приятное. Хвалил себя за эту невинную хитрость.
Они улеглись в «бэтээре» на днище, подстелив под себя тощие затоптанные матрасы, напялив все теплые, взятые в дорогу одежды. Прижались друг к другу боками и, укрытые броней, затихли. Белосельцев, чувствуя с одной стороны дышащего Нила Тимофеевича, а с другой Сайда Исмаила, заслонявшего его от железных, проникающих сквозь броню сквознячков, вспомнил перед сном одной общей мыслью – синий, вмазанный в глину изразец, мальчика в красной шапочке, увешанный блестками грузовик и ангелов, перепархивающих, словно бабочки, с одной горы на другую. И моментально уснул. Сон его был темный, без картин, как наброшенный войлочный полог, под которым медленно, собираясь из светящихся песчинок и точек, возникало сновидение.
Склон, каменистый, шершавый, с сухой красноватой травой. Склон перерезан дорогой, еще и еще раз спускавшейся к горной реке. Вода блестит, отражает тусклое солнце, поворачивает за соседнюю гору. На склоне пасется животное – одинокий белый ослятя. Опустил к земле голову, поедает сухие травы. Кругом ни души – ни селения, ни следа человека, словно этот ослятя поставлен здесь от начала времен, поджидает его, Белосельцева. И от этого тревога, желание приблизиться, разглядеть поближе животное. Он спускается по откосу к осляти. Тот увеличивается, отчетливо видны его белые бока, длинные чуткие уши, выпуклые крепкие губы, срывающие траву. От осляти исходит свечение, воздух вокруг головы и согнутой шеи наполнен серебристым сиянием. И от этого странно и больно. Он тянет руки к животному, помещает их в свет, видит свои худые, озаренные пальцы. И просыпается с колотящимся сердцем.
Черный короб стальной машины. Ледяные сквознячки. Спящие на днище люди. Исчезающее облачко света – остатки его сновидения.
Белосельцев, встревоженный, недоглядев вещий сон, лежал, чувствуя над собой глухие плиты брони. Его жизнь, отделенная от внешнего мира, была самодостаточна, предоставлена себе самой, несла в себе свое начало и свое завершение. Недавний сон, его таинственный вещий смысл, был рожден в сердцевине сознания, как зародыш в яйце. Стальное яйцо «бэтээра», вялый сонный белок его жизни, тягучий желток сознания, и зародыш будущей смерти, окруженный бледным сиянием, – пасущийся на склоне ослятя.
Ему стало тесно, страшно. Он задыхался, завинченный в стальной гроб «бэтээра». Приподнялся, стараясь не потревожить соседей. Стал шарить над головой, нащупывая люк и железные сочленения замка. Повернул рукоять, откинул тяжелую крышку. И в круглое отверстие люка опрокинулась на него сверху сверкающая ледяная струя, будто кто-то вылил на него черное блестящее ведро, полное звезд. Звезды окатили его, ослепили, он задохнулся от холода, неисчислимого белого, голубого мерцания. Стоял на коленях на днище, глядя в очерченную кругом бездну, и эта бездна дышала, росла, наливала в люк все новые созвездия. Стальное, закупорившее его яйцо лопнуло, и он вырвался в мироздание.
Белосельцев сидел на броне, держась за холодную росистую крышку люка. Запрокинув лицо, смотрел на азиатское небо, и оно, иное, нерусское, с иным орнаментом звезд, яркостью и силой светил, восхищало его. Было небом иной страны. Бесчисленными ударами звезд, прикосновением лучей, росчерком метеоров сотворяло под собой иную жизнь и судьбу. Иные люди жили под этими звездами в своих глинобитных жилищах. Иные молитвы звучали под этим небом в лазурных мечетях. Иные сказания помнили старцы, накрытые белой чалмой. Иные кости истлевали в древних мазарах под россыпями разноцветных созвездий.
Он сидел на броне, и небо Востока накрыло его своей мерцающей тайной, сулило бесконечное бытие и бессмертие.
Восхищенный, верящий, ожидающий для себя здесь, на Востоке, неизбежное, уготованное ему чудо, Белосельцев опустился в люк. Сквозь круглое отверстие из неба, как из зеркала, смотрело на него его собственное, отпечатанное в звездах лицо. Задраял крышку, на ощупь пробрался на место и лег, слыша близкое дыхание товарищей.
Он быстро заснул, отпуская от себя сочное сияние звезд, словно укрылся плотным войлоком. Под темной кошмой, в закупоренном яйце сновидений, из крохотных пылинок и точек стали возникать и светиться склон с красноватой травой, каменистый изгиб дороги, бегущая под солнцем река, и на склоне, окруженный туманным светом, пасется ослятя. Поджидает Белосельцева, поставленный здесь с незапамятных библейских времен.
С утра продолжали движение. Погода испортилась. Дул твердый холодный ветер. Лысые склоны, ободранные острые камни выглядели жестоко и дико. Дорога шла в горы, моторы натужно гудели, и сердце чувствовало высоту, начинало стучать. Казалось, горы не пускали колонну, возводили навстречу уступ за уступом, выставляли перед ней не-пускающие каменные ладони. Белосельцев ощущал сопротивление гор, не желавших его продвижения. Чувствовал отторгающую силу, запрещающую его появление. Нахохлившись, уцепившись за ствол пулемета, поворачивал ветру бок, видя, какая сизая, обветренная щека у Нила Тимофеевича, какой лиловый опухший от холода нос у Сайда Исмаила.
– Саланг задышал, – сказал подполковник Мартынов, озабоченно всматриваясь в синюю, окутанную гарью колонну. – Как еще нас встретит Саланг!
Ветер дул острый, колючий. Срезал с окрестных гор режущие каменные песчинки. Колол лицо, норовил ударить в зрачок. Вершины были мутные, дымились. В сером прахе Белосельцеву чудились остатки костей, крошки исчезнувших крепостей, ржавчина мечей и кольчуг, частицы позолоты. Все, что осталось от армий, караванов, нашествий. От паломников и царей, дервишей и купцов, разбойников и пророков. От всех, кто шел на Восток, оседая на окрестных горах тусклой каменной пылью. И он, вслед за ними, исчезнувшими, разведчик, офицер, путешественник, идет караванным путем.
– Саланг Дедушка Мороз живет! – пытался улыбнуться одеревенелыми губами Сайд Исмаил, словно извиняясь за этот холод и ветер, докучающий званым гостям.
Внезапно пошел снег, сразу за поворотом горы, словно здесь, среди белых склонов, он шел всегда, и они покинули область красной колючей пыли и въехали в мир белого влажного снега. Он падал густыми хлопьями, ложился круглыми купами на черные камни, и в камнях вдруг открывались черные очи, горбатые носы, открытые рты. Снег был на фуражке Мартынова, шапке Сайда Исмаила, кепке Нила Тимофеевича. Он запечатывал глаза Белосельцеву, словно ему надевали слепую повязку. Склеивал белым пластырем губы, чтобы он не мог говорить. Норовил залететь в рот, забить его тугим белым кляпом. Снег тоже был послан с гор чьей-то запрещающей волей. Колонна с трудом прожигала снегопад горячим рыком моторов, плавила его на синих капотах тракторов, на зеленой броне «бэтээров».
– Слепота такая, как бы в пропасть не съехать! – опасливо сказал Нил Тимофеевич, пожалевший, что оказался вдали от дома, от проверенных надежных дорог. Вручил свою жизнь молодому, в танковом шлеме водителю, который, включив огни, рывками двигал машину в непроглядной метели.
Снег перестал, словно подняли ввысь белый пахучий занавес, и они снова оказались среди камней и откосов. Эти откосы теперь были глыбами стекла, сверкали на тусклом солнце. Красные граниты, зеленые валуны, рыжие песчаники были в коросте льда. Бетонка извивалась стеклянной струей, и машины скользили по ней, сползали к обочинам, наезжали одна на другую. Колонна ломалась, сплющивалась. Водители выскакивали из тракторов, кричали, махали руками. Мартынов зло кричал, сжимая тангенту. Рассылал команды, проклятия. «Бэтээры» подруливали к буксующим машинам, брали их на трос. Сами буксовали, елозили. Будто кто-то невидимый хохотал над людьми, лил под колеса скользкое стекло, покрывал дорогу тонким сверкающим льдом. Вышло солнце, растопило лед. Повсюду текли ручьи, слепили глаза. Машины снова почувствовали колесами шершавый бетон. Выстраивались в колонну, продолжали движение.
У туннеля Саланг, двойной дыры, пробитой в граните, была пробка. Скопились войска, крытые брезентом фургоны, цистерны наливников, КамАЗы с зарядными ящиками, разрисованные короба афганских автобусов, платформы с тягачами, на которых, развернув назад пушки, стояли танки. В дырах туннеля выл ветер, летела черная гарь. Регулировщики в красно-белых касках ошалело махали жезлами. Как погонщики, направляли в туннель клубящиеся железные стада. Машины с ревом уходили во тьму, затаскивали за собой дым, проталкивались сквозь гору, набивали ее сталью, снарядами, авиабомбами. Казалось, вот-вот гора взорвется, поднимется на дыбы, разлетится в разные стороны страшным ударом.
В эту узкую горловину из одной половины земли в другую протискивалась война. Огромная, непомерная, в узком туннеле, сжималась в сверхплотный жгут, пронизывала гору как угольное ушко. По другую сторону вновь расширялась, распускалась дымным розовым облаком, из которого вылетали ввысь самолеты, расползались танки, разбегались во все стороны пехотинцы.
Так чувствовал Белосельцев этот горный перевал, каменный туннель, в который предстояло ему нырнуть. Множество людей с напряженными лицами смотрело в клубящийся черный прогал, где исчезали машины, крутились гусеницы, мерцали рубиновые хвостовые огни. Ждали своей судьбы, гадали о своей доле.
И когда наконец их колонна двинулась и вокруг померкло, загудело, понесся рваный свистящий ветер, белый круг света стал удаляться, уменьшаться и гаснуть, Белосельцеву показалось, что в гудящую трубу над его головой ворвались, помчались, раскрывая секущие крылья, незримые духи войны. Обгоняли его, летели вперед, трубили о его, Белосельцева, приближении.
По другую сторону туннеля открылись перламутровые горы, розовые, застывшие у вершин облака, далекий синий ледник, как прозрачное стеклянное диво. Каменное притяжение хребта уменьшалось, дорога длинными изломами снижалась в долину, ущелье, по которому катила колонна, медленно нагревалось.
– Это что? Флаг? – Нил Тимофеевич крутил головой, показывая на придорожную груду камней, из которой торчала корявая палка с зеленой развеянной тканью.
– Такой могила, – пояснял Сайд Исмаил, оттаивая после высотной стужи. – Святой человек, старик. Народ приходи, молись.
Белосельцев провожал глазами отлетающую зеленую тряпицу, под которой почивали кости местного целителя и пророка, пропустившего их в заповедную долину Востока.
Откосы гор открывались перед ним, как страницы огромной книги. Кто-то медлительный, терпеливый, как школьный учитель, перелистывал учебник. Показывал то картину кишлака с лепными сотами домов и дувалов. То клеточки полей, зеленых, черных и красных. То корявый, возросший на уступах сад, безлистый, с оранжевыми плодами в черных суках. Внизу, под откосом, кипела река, бурлила на перекатах. Белосельцев заметил с брони омытый водою камень и присевшую на нем верткую птицу с хохолком и зеленой грудью. Ему вдруг захотелось сойти с машины, опуститься к воде, в перепутанные черные травы, пахнущие, нагретые солнцем. Достать сачок и, быть может, на этой зимней, прогретой солнцем земле поймать маленькую, черно-красную бабочку. Чтобы после, в Москве, раскрыть жестяную коробку, увидеть под лампой резные крылья, крохотные застывшие усики, твердое недвижное тельце. Вспомнить это ущелье, прилепившийся на круче кишлак и Сайда Исмаила с улыбающимися, мягкими, как у оленя, губами.
– Восток любит деньги, а понимает силу, – рассуждал подполковник Мартынов, продолжая вслух какую-то свою армейскую мысль. – Я в Киргизии служил, под Фрунзе. У нас в гарнизоне гражданский киргиз служил, на водовозке работал. За деньги попросишь сделать, пообещает, не сделает. А кулак покажешь, мигом исполнит! – Белосельцев рассеянно внимал его философии. Вниз под уклон двигалась синяя, нарядная колонна тракторов. Мимо, за обочиной, проплывал кишлак – высокие, крепко слепленные дувалы, гончарные купола, крохотные в стенах бойницы. Женщина в парандже двигалась по тропинке, покрытая с головой, в развевающейся пышной накидке. Белосельцев угадывал, что она молода, движения ее были грациозны. Он старался углядеть под тканью ее грудь, колени, сухие быстрые щиколотки. – Сюда ввести не одну, а две-три армии. Тогда будет полный порядок. Ни выстрелов, ни бузы. Восток понимает силу!
Выстрелы прозвучали внезапно из-за желтой стены кишлака. Сквозь рокот моторов, посвистывание ветра продолбили, прогрохотали винтовки. Белосельцев видел два дымка из бойниц. Ему померещился слабый металлический луч, скользнувший по стволу. Один из тракторов завилял, выехал из колонны, покатил не к пропасти, а к взгорью. Завалился в кювет и лежал там, крутя колесами, как перевернутый беспомощный жук.