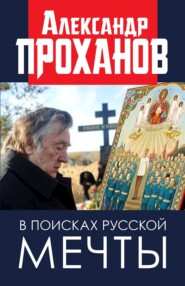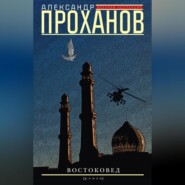По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Контрас» на глиняных ногах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Хайнекен». – Белосельцев указал на высокие толстостенные кружки, батареей стоящие на мраморной плите.
– Конечно. – Бармен ловко подставил кружку под кран, из которого упала и вспенилась, загуляла в стекле живая черно-коричневая струя, наполняя кружку, вздуваясь у краев густой, желтовато-белой пеной, похожей на всбитые сливки. – Прошу. – Бармен поставил перед Белосельцевым кружку, от которой подымался вкусный, терпкий, горьковатый запах темного ячменного пива. Поднял за влажную ручку тяжелый сосуд. Окунул губы в пену, которая защекотала ноздри. Стал глотать ее, чувствуя плотную мякоть.
Пиво было отменным. Бармен смотрел, как он пьет, получая удовольствие от вида наслаждающегося человека, заглянувшего в его ночной пустующий бар.
– Отличный «Хайнекен». Стоило здесь приземляться, – сказал Белосельцев, перехватив взгляд холодных наблюдающих глаз.
– В Советском Союзе есть «Хайнекен»? – поинтересовался бармен.
Белосельцев, не отрывая губы от округлого толстого края, медленно всасывая горькую душистую струю, отрицательно покачал головой.
– А что есть? – полюбопытствовал бармен.
– Баллистические ракеты. – Белосельцев заставил себя отороваться. Сбил пену с губ тыльной стороной ладони.
– Их нельзя пить, – философски заметил бармен.
– Да мы и не пробуем. – Белосельцев снова поднес к губам кружку. Бармен, не желая показаться назойливым, отошел в глубь бара, вытирая полотенцем и без того прозрачно-чистую, круглую, как шар, рюмку.
Белосельцев сидел, с наслаждением потягивал пиво, дорожа этой часовой паузой в замкнутом стеклянном объеме ночного порта, за пределы которого он никогда не выйдет, не проникнет в глубь незнакомой и ненужной ему страны с ее средневековыми замками, гранитными дольменами, выбитыми на замшелых скалах древними кельтскими рунами. Все это останется для него навеки непознанным, отделенным стеклянной призмой порта, где Ирландия сполна представлена одиноким рыжим барменом и бочковым коричневым пивом.
Пассажиры, устав бродить у лотков, расселись по креслам, терпеливо ожидая, когда зазвучит переливами трансляция и женский голос на английском возвестит о начале посадки.
Он заметил свою спутницу, сидящую невдалеке, – ее красивый плотный жакет, шелковую блузку, просторную юбку, слегка прикрывавшую круглые розоватые колени. Она казалась задумчивой, красивой. Ее волосы слабо отливали золотым светом, она была сосредоточена на какой-то печальной, не отпускавшей ее мысли. Белосельцев смотрел на нее, пользуясь тем, что она не поднимает глаз. От недавней неприязни не осталось следа. Ее сменило странное созерцание, когда зрачки вдруг останавливаются, перестают дрожать, превращаясь в кристаллики льда, и объект созерцания начинает удаляться по световому лучу, окруженный едва заметным сиянием. Так и она, со своими золотистыми волосами, белой открытой шеей, сжатыми тесно коленями, стала вдруг удаляться, помещенная в слабое золотистое зарево. И он, не мигая, как ясновидец, смотрел на нее.
Ему вдруг показалось возможным подойти к ней, взять за руку, увезти из этого зала, сквозь прозрачную стену, в дождливую ночь, в другую страну и жизнь, которая начнется сразу же, как только выйдут на ветреное, дождливое шоссе с убегающими рубиновыми огнями машины. И другая жизнь примет их, укроет, изменит предначертанные им обоим судьбы. Изменив имена, обманув судьбу, они исчезнут из вида знающих их людей, и то место, где их поджидают, где им уготована задуманная роль и задача, останется пустым. Метеорит, летящий из бездны по рассчитанной траектории, желающий их поразить, ударит в пустое место.
Это продолжалось мгновение. Лед в зрачках растаял, они дрогнули. Там, где было сияние, повисло легчайшее облачко испепеленной иллюзии. Булькающий женский голос обьявил по-английски посадку на рейс «Аэрофлота».
Они летели на огромной высоте, близко к туманным звездам, над океаном, который незримо окутывал самолет своей влажной восходящей тьмой. Пассажиры спали, горело несколько освещенных табло. В бесчисленных вибрациях дребезжала обшивка, будто под нее пробрались металлические кузнечики, неумолчно скрежетали своими ножками и усиками. Белосельцев откинулся в забытье, паря между звездами, где реяли безымянные небесные духи, и океаном, где ныряли подводные лодки, всплывали ночные киты, мерцал и переливался в течениях зеленоватый планктон.
Он вдруг почувствовал, что пальцы его, лежащие на подлокотнике, касаются женской руки. Это было прикосновение во сне, от которого она не проснулась. Недвижны и безмятежны были ее близкие лоб, неслышно дышащие губы, гибкая, выступавшая из ворота шея. Он хотел было убрать свои пальцы, но удержал их, боясь потерять это нечаянное касание. От нее исходило слабое тепло сна, едва уловимый запах тонких духов. Его пальцы, прикасаясь к ее открытому запястью, казалось, улавливали слабые биения и переливы, блуждающие вместе с ее сновидениями.
Был грех продлевать это случайное прикосновение, но он не убирал руку. Неслышные потоки переливались из ее руки в его пальцы, и ему казалось, что он узнает ее. Без слов, повествований, исповедей. Во всей полноте ее прожитой жизни и еще предстоящей судьбы. Ему чудилось, он знает, какой она была в детстве, какую носила косу, какой повязывала бант. Каким было убранство ее комнаты с игрушками, книжками, нотной тетрадью на раскрытом пианино. Узнавал о ее первой влюбленности, о близости с первым мужчиной. О ее семье, работе, хлопотах, огорчениях. Узнавал о ее мечте, тревоге, неутоленном ожидании и предчувствии. И все это без слов, без образов, без отдельных картин, а во всей полноте, через тепло, льющиеся потоки, слабые биения. Из ее запястья переплескивалась ее жизнь, как если бы у них стали общими кровяные сосуды, нервные волокна, телесные ткани.
И она, не просыпаясь, узнавала все о его жизни: о путешествиях, о военной профессии, о самых неназываемых потаенных секретах, о тайных прозрениях и печалях. Узнавала о его страстях и пороках, о его ожидании чуда, которое заставляло двигаться по землям и странам, безнадежно выкликать это чудо, каждый раз от него ускользавшее. Она знала о его коллекции бабочек, об ожогах, полученных в афганском ущелье, о рубцах, напоминавших об африканской дороге. Все мысли, которые у него сейчас возникали, тут же превращались в ее сновидения. И теперь ей снилась большая кампучийская бабочка, золотая, в темных прожилках, пойманная им в Батамбанге.
Это напоминало переселение душ. Или непорочное зачатие. У них было одно тело, одна душа, одно существование. Как единое существо, они летели над океаном, на огромной высоте, под близкими звездами.
Она слегка шевельнулась во сне. Их руки распались. Изумленный, не умея объяснить пережитое, он слушал, как затихают в нем теплые потоки и волны, гаснут, удаляясь, биения.
Он проснулся от колыхания менявшего курс самолета. В иллюминаторе был профиль молодой спящей женщины, начинавшее светлеть темно-синее небо, близкая водянистая звезда и внизу, за оконечностью крыла, размытое желтое зарево.
– Флорида!..Майами!.. Гринго! – Сосед-никарагуанец не спал, тянулся на это зарево, словно пробовал его на вкус губами, вдыхал нервными расширенными ноздрями, как лошадь, чувствующая близость волка. Оттуда, из размытого свечения, летели волны опасности, которые перехлестывали границы его родины, стреляли из автоматов, пикировали самолетами, превращались в пожары и взрывы, в скоротечные стычки и похороны. Белосельцев височной костью чувствовал отдаленную громаду Америки, которая была стратегическим противником его страны, сближала его с этим никарагуанским молодыми офицером, делала их солдатами одной армии.
Женщина проснулась, посмотрела на росистую звезду, на электрическую ночную зарю близкого побережья. Чуть потянулась, расправляя воротник блузки. Быстрыми касаниями поправила прическу. Чуть отодвинулась от Белосельцева. Он был ей неинтересен и чужд. И она была чужой и ненужной, будто и не было переселения душ, непорочного проникновения друг в друга.
Быстро, словно отдергивали занавес, светало. Тускло, латунно сверкнул океан. Была видна бесконечная океанская рябь, похожая на чеканку, и крохотный, едва различимый корабль. В утренней, бурно налетавшей заре, устремляясь вниз к океану, к сине-зеленому шелку, белым кружевам прибоя, песчано-белым пляжам, они опускались в Гаване. Покидая салон, на трапе он задохнулся от жаркой влаги, сладкого липкого воздуха, который, как в сауне, был пропитан эвкалиптом, душистым дурманом, и его тело, чувства, внутренние органы, попавшие из северного тусклого предзимья в ослепительные горячие тропики, испугались, восхитились, и лицо покрылось тончайшей пленкой, словно к нему приложили лепестки маслянистых роз.
Часовую стоянку он провел в баре, потягивая прохладную кока-колу, жадно рассмативая окружавших его людей, наслаждаясь их жестами, мимикой, звуками их языка.
Тучная, колышущаяся негритянка, наполнявшая просторое платье своими выпуклостями, складками, жировыми отложениями, энергично убирала со столов посуду. Стареющий, с седыми колючими усиками мулат ловко щелкал крон-пробками, открывая бутылки с кокой, и казалось, он играет на музыкальном инструменте. Солдат-кубинец с карибскими смуглыми скулами, похожий на свежую бронзовую отливку, спокойно и величаво пил апельсиновый сок. Пассажиры испанского рейса «Иберия», шумные, подвяленные, как сухофрукты, бурно жестикулировали, обсуждая какой-то пустяк. Окруженный испаноязычными людьми, глядя на далекие перистые пальмы, раскачиваемые ветром, на белый, взлетающий спортивный самолетик, Белосельцев радостно ощутил себя в недрах другого континента, наполненного иной жаркой расой, огненной музыкой, певучей речью, невянущими вечнозелеными растениями, экзотическими бабочками, и он, отличный от них, острее ощущал свою внутреннюю сущность, исключительность и несхожесть, отчего окружавшие его люди и звуки становились еще привлекательней.
Когда поднялись над Кубой, совершая последний перелет в Манагуа, он увидел в иллюминатор, как остров, покрытый тропической зеленью, превращался в ржаво-красное, жарко-кипящее болото, затем в медно-зеленое, окисленное побережье, бирюзовое мелководье, в чистую сияющую лазурь, сквозь которую просвечивали рифы, донные скалы, и казалось, остров продолжает расти, выступает из океана, осаждает на себе океанские окислы, и он наблюдает из самолета извечную, первозданную химию жизни, создающую из рассола материки, континенты, покрывая их лесами и травами, выпуская тварей и птиц, созидая человека, ввергая род людской в непрерывные борения и распри, и из этих распрей из века в век добывается тончайший осадок истины.
Женщина, как и он, смотрела на океан. Самолет медленно поворачивался, луч скользнул по ее золотистым волосам. Белосельцев вдруг подумал, что она, словно поводырь, ведет его от Москвы, через ночную Европу, над великим океаном, к американскому побережью. «Как статуя на носу корабля», – усмехнулся он. И тут же суеверно, словно языческую богиню, попросил, чтобы она благополучно довела его до урочного места.
Он закрыл глаза, спасаясь от ровного, близкого света алюминия за стеклом, от белесо-голубого, в бесчисленных выбоинах океана, над которым несли его надсадно ревущие, утомленные турбины. Почувствовал колыхание воздуха на кромке воды и суши. Внизу, пятнистая, зелено-коричневая, повторяя цвет карты, мчалась земля. Голубой залив был окружен белой каймой прибоя. Островерхо и мощно, как насыпанный террикон, поднималась гора, и рядом – другая, многократно уменьшенная, повторяя очертания первой.
– Момотомбо!.. – с наслаждением, гулко, как удар бубна, произнес сосед-никарагуанец, указывая на вулканическую гору. – Момотомбино!.. – нежно, как выговаривают имя ребенка, назвал он имя маленькой горы. – Садимся!.. Манагуа!.. – И он жарко, счастливо дышал, глядя на зеленую кудрявую землю, с полями и трассами, посылавшими в небо металлические и стеклянные блески.
Прикосновение самолета к поверхности замкнуло в Белосельцеве невидимые контакты, приводя его тело и дух в состояние бодрой готовности, подключая к сознанию скрытые, сбереженные ресурсы энергии, необходимые для первых встреч, объяснений, знакомств. С этих первых незначительных встреч начиналось освоение неизвестной среды, полной опасностей и загадок, среди которых ему предстояло работать.
Промчалось белое, с диспетчерской вышкой, здание аэропорта. Мелькнули свежеотрытые, красноватые капониры с зенитками и солдатами в камуфляже. Ребристый ангар показал на мгновение нутро с серо-зелеными вертолетами. Серебристый, словно из конфетной фольги, старомодный, как памятник, стоял на бетоне «Дуглас». Лайнер гасил бег. Все подымались, разбирали вещи. И, выходя на трап, под яркое горячее солнце, Белосельцев навсегда забывал ночной перелет, случайную спутницу, черноусого никарагуанца, жадно и зорко озирал окружавшую его новизну.
Его встречали. Из советского посольства – худенький, беловолосый атташе по культуре, чья любезность носила протокольный характер и кому визит Белосельцева доставлял дополнительные ненужные хлопоты.
– Курбатов, – представился он, сжимая Белосельцеву руку.
Ему сопутствовал высокий, почти огромный никарагуанец, начинавший тучнеть, топорщивший в улыбке колючие черные усы. В его горбоносом, длинном, с круглыми скулами лице слились, но и продолжали существовать отдельно черты индейца и испанца. Одно лицо как бы вкатилось в другое, просвечивало одно сквозь другое.
– Сесар Кортес.
Белосельцев ощутил его могучее, мягко-осторожное рукопожатие. По-испански поблагодарил обоих за встречу.
– Вот и хорошо, – с облегчением, услышав испанскую фразу Белосельцева, произнес атташе. – Значит, проблема переводчика отпадает. А мы ломали голову, где вам найти переводчика. Посольство загружено, и нет ни одного свободного человека.
– Я не создам проблемы посольству, – улыбнулся Белосельцев, опуская на землю дорожный баул, тут же подхваченный большой, как черпак, ладонью Сесара.
– И еще один вопрос, сразу на месте. Товарищ Сесар – писатель, представитель Министерства культуры. Он приглашает вас жить к себе в дом. Или, может быть, у вас есть возражения и вам удобнее поселиться в отеле?
– Друзья, я предлагаю это решить за чашечкой кофе, – мягко приглашал их в здание аэропорта Сесар.
Атташе помог Белосельцеву заполнить бланк на паспортном контроле. Пили очень крепкий, горячий, немосковский кофе. Белосельцеву нравился Сесар, его могучее сложение, осторожные, плавные, деликатные руки с длинными пальцами, которыми он сжимал фарфоровую петельку на кофейной чашке. И почему-то подумалось, что Сесар должен хорошо танцевать.
– Мы поедем сейчас ко мне, – сказал Сесар, – вы отдохнете. А вечером вас приглашают на официальный прием, где будут Даниель Ортега, Эрнесто Кардинале, команданте северного и южного фронтов. Там вы получите свои первые впечатления о политике и войне.
Белосельцев подхватил дорожный баул, и все вместе они направились к выходу, в толчею, к стоянке машин, где кончалось здание порта и за прозрачной металлической сеткой открывалось взлетное поле. Там белела махина лайнера с надписью «Аэрофлот», остывала, отшлифованная небесными потоками, океанским ветром, блеском солнца и звезд. Сесар открыл багажник старенького красно-вишневого «Фиата», собираясь положить в него дорожную поклажу гостя.
Белосельцев зорко, радостно озирал утреннее желтоватое небо с легчайшей латунной пыльцой, отъезжавшие автомобили, возбужденных, с чемоданами и баулами, пассажиров. Он вдруг увидел близко свою спутницу – стояла, растерянно озираясь, видно, искала встречающих. У ее ног стояла картонная коробка с какими-то литерами, на руке висел легкий плащ, на плече, на тонком ремешке, качалась маленькая изящная сумочка. Белосельцев быстро оглядел ее всю – каблуки ее туфель, недлинную юбку, дрожащую от ветра, золотистые волосы – и тут же отвернулся от нее, как от ненужного, мимолетного, навсегда исчезающего. Погрузился взором в сияние латунного, цвета легкой чайной заварки неба.
Там, среди разгоравшегося небосвода, волнами прибывал свет. Небо волновалось, словно по нему бежал неслышный ветер. И среди этих бесшумных волн света глаза Белосельцева различали едва ощутимое уплотнение, не видели, а предчувствовали появление крохотной темной точки. И она появилась, малая, как спора, несущая в себе зародыш тревоги. Белосельцев терял ее, и тогда на ее месте возникало фиолетовое пятнышко – проекция перенапряженного зрачка. А потом вновь ее видел. Становясь крупнее и тверже, она приближалась, похожая на далекую, летящую над зелеными холмами птицу.
Она надвигалась, меняла очертания, выпадала из латунного неба, превращаясь в двухмоторный самолет с блестящими фонтанчиками пропеллеров. Самолет снижался, словно шел на посадку. Низко, с легким жужжанием, шел над ангарами, и под ним, у полукруглого рифленого ангара полыхнуло пламя, ударил круглый взрыв, и резкое трескучее трясение прокатилось над полем.
Из этого лопнувшего пузыря вырулил «Дуглас» с одном работающим мотором, с переломленным крылом, которым упирался в бетон, очерчивая окружность, как циркуль. Остановился, осел на обломанную плоскость, охваченнный синим, как спирт, пламенем.
Двухмоторный самолет продолжал лететь, взмывая по высокой дуге, словно готовился совершить фигуру высшего пилотажа, демонстрируя зрителям красоту и умение в пустоте сияющих небес. И, подхватывая его начавшуюся дугу, догоняя мелкими искрами, ударили зенитки из капониров, окруженные мешками с землей. Задергали гибкими, качающимися стволами, окружили себя чавкающими, лязгающими звуками, короткими пламенеющими язычками.