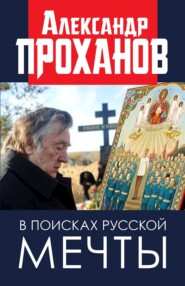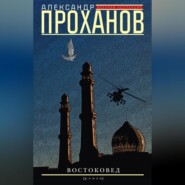По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Политолог
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вероника Степановна, благодарная за то, что ее выслушали и посочувствовали, слегка порозовела. Ее припухлое, испещренное морщинками, припудренное лицо обнаружило следы былой привлекательности. Так в обветшалую часовню залетает косой вечерний луч солнца, на один только миг коснется облупленной стены, и на ней зацветет старинная фреска.
Вероника Степановна ушла, притворив за собою дверь. Стрижайло снова улегся на диван, больше не касаясь газеты.
Иногда его посещала странная форма самосознания. Концентрируясь на себе, он представлял себя не в виде бестелесного «я», отделенного от плоти и существующего где-то вне тела. Не в форме разума, наполненного гулом клубящихся мыслей, способного сжаться в концентрированную жаркую точку, из которой раскручивается галактическая спираль. Не в виде одной, самодовлеющей части тела, становящейся вдруг центром всего организма, как, например, нестерпимо ноющий зуб, в который переместилось страдающее «я», или возбужденный похотью пах, в котором «я», расщепленное на множество обезумевших клеток, слиплось в раскаленную плазму.
Это было особое самоощущение, когда он сознавал себя на молекулярном уровне. Он – разделен на бесчисленное множество равнозначных живых пузырьков, крохотных беспокойных частичек, в каждой из которых во всей полноте присутствует его личность. Истребленная в одной части тела, которое может быть подвергнуто ампутации – лишено конечности, глаза, почки или полушария мозга, – его личность с исчерпывающей целостностью сохраняется в других молекулах, как крохотный лик в медальоне, как отражение в зеркальном калейдоскопе. Он чувствовал себя нарисованным портретом, где каждый мазок является уменьшенной копией общего изображения.
Испытывая эти гносеологические откровения, не встречая упоминаний о них ни в философских трактатах, ни в медитативных инструкциях, Стрижайло полагал, что ему дано особое сознание, на уровне генетического кода, который и является истинным вместилищем личности – ее текущей фазы, а также всех фаз, от рождения до смерти.
И если развить в себе это уникальное самосознание, то можно проникнуть в свою «преджизнь», а также в «постжизнь», пережить идею бессмертия.
Он лежал на диване и чувствовал себя скопищем бесчисленных пузырьков, как если бы был ванной с кипящей минеральной водой. Пузырьки взлетали и лопались, сливались и измельчались, кружили по странным орбитам и переливались, ввергнутые в броуновское движение. И в каждом пузырьке был он сам, как в крохотной икринке, – перевертывался, смещался, сталкивался с самим собой. Эти видения сопровождались таинственной музыкой. Каждая молекула издавала свой особенный звук, источала микроскопическую гармонику, которая, сливаясь с соседней, превращалась в немолкнущий хор, какой вдруг наполняет огромное дерево с мириадами поющих цикад. Звук не был бессмысленным шумом. В нем присутствовала мелодия, тема, музыкальное повествование о его, Стрижайло, жизни, о его неповторимой судьбе.
Ему казалось, что если записать эту музыку на чувствительный прибор, исследовать и расшифровать, то можно угадать его характер, свойства натуры, духовные и телесные немощи, тайные побуждения и страхи. Предсказать его судьбу, предначертать ожидающие его потрясения. Этой музыкой, если ее перенести на пленку, усилить и ненароком транслировать в пространство, где он находился, можно управлять его поступками, определять ход мыслей, влиять на судьбу. В руках друга эта музыка могла оказаться целительным средством. Но, оказавшись в руках врага, превращалась в оружие, способное его погубить, направить на путь катастрофы.
Утонченный меломан, вслушиваясь в музыку молекул, мог выделить сложные хоралы, которые звучали в той или иной части тела. Особую музыку источало сердце – иногда это была Маленькая серенада Моцарта, а иногда «Аппассионата» Бетховена. По-особому звучал зрачок – то были фортепьянные этюды Скарлатти. Пах был наполнен музыкой Скрябина. Печень звучала как Брамс. Легкие исполняли Фугу Баха. Зуб, если он болел, звучал как свадебный марш Мендельсона. Поясница, когда в нее вдруг «ступало», играла симфонию Шостаковича. А пульсирующая на горле артерия повторяла Прокофьева.
Стрижайло казалось, что в биоинженерной лаборатории, на стерильных стеллажах стоят стеклянные банки с физиологическим раствором, в котором продолжают жить извлеченные из тела органы. Красное, с обрезанными трубочками сердце. Млечно-серые, пузырящиеся легкие с разъятыми воздуховодами. Фиолетовая, с прожилками печень.
Матка с вывернутым складчатым раструбом. К органам подведены электроды. Снимаются электрические гармоники. Пропущенные через микрофон, превращаются в произведения классической музыки, транслируются по «Радио России».
Вот почему патологоанатомические картины Тишкова имели для Стрижайло музыкальный аналог в виде концертной программы консерватории.
Стрижайло был убежден, что великие открытия в области генетики, биоинженерии и клонирования были сделаны музыкантами, создающими экспериментальную музыку. «Музыке сфер» в макромире, где каждая планета, астероид и комета издают небесную мелодию, – этой космической симфонии в микромире соответствует «музыка молекул». Композиторы Шнитке и Артемьев, изумлявшие публику своими несуразными, малопонятными творениями, на самом деле перекладывали на ноты, записывали в партитуры «адажио» циррозной печени, «кончерто гроссе» инфарктного сердца, «скерцо» инсультного мозга. Именно так, сутками просиживая в анатомических театрах, не спуская глаз со стеклянных банок, где, похожие на морских осьминогов и кальмаров, плавали иссеченные органы, эти композиторы написали лучшие свои произведения, ставшие сегодня классикой. Там же, среди драгоценных банок, записывая «музыку молекул», они открыли геном человека. Расшифровали генетический код, создав его музыкальный аналог. В последнее время работы композиторов-экспериментаторов были засекречены, сами они исчезли из вида, их имена пропали из концертных программ.
Поговаривали, что их всех поместили в шарашку ФСБ, где, в прекрасных условиях, с новейшей электронно-акустической аппаратурой, они создают «музыкальную бомбу» – новейший вид оружия, способного полностью перекодировать генетический код человека. На закрытом полигоне под Вологдой на столбах были закреплены репродукторы, сквозь которые транслировалась «экспериментальная музыка». В результате патриархальные крестьяне окрестных деревень утратили славянскую внешность, обрели сходство с кавказцами, бойко говорят на чеченском, торгуют оружием и наркотиками.
Сейчас он лежал на спине, закрыв глаза. Медитировал, воображая свой генетический код. Свой «электронный портрет», каким бы изобразил его новый Шилов, художник технотронного века.
Этот портрет представлялся ему в виде двух спиралей, совершающих винтообразные движения в противоположные стороны. Одна спираль, ярко-красная, неоновая, воплощала в себе страстные, креативные силы его натуры, среди которых напрочь отсутствовали этика, моральные побуждения, долг. Творческая энергия, увлекательная игра, неутолимое наслаждение заставляли вращаться эту неоновую спираль, пылающую над ним подобно ночной рекламе. Вторая спираль была едва очерчена, туманно-голубая и блеклая. Чуть заметно вращалась, готовая остановиться. С этой спиралью были связаны печальные воспоминания детства, где присутствовали нежность к бабушке, болезненная беззащитность, безымянная, не имеющая воплощения любовь. Эта спираль напоминала вьющуюся струйку дыма, которую вот-вот снесет и развеет ветер.
Две эти сути – явная, доминирующая, управляющая его побуждениями и поступками и тайная, непроявленная, живущая на далекой периферии личности, – эта двойственность была для него загадкой, иногда забавной, иногда мучительной. Как если бы у сильной, стремительной рыбы, господствующей в океане, присутствовали недоразвитые, ненужные плавники. В определенных условиях, при иссыхании океана, они могли преобразоваться в крылья.
Превратить рыбу в птицу. Продлить ее существование в измененной среде.
Неоновая спираль, которая извивалась в нем, как неутомимый, пульсирующий червячок, рубиново-красный мотыль, и была тем таинственным зародышем, что вдруг бурно разрастался, превращался в гигантского, набрякшего красными соками червя. Толкал в авантюры, в безжалостные, аморальные предприятия, побуждал к бесчеловечным поступкам. «Дьявольская энергия», «дьявольская изобретательность», «дьявольская везучесть» – так говорили о нем за спиной. Иногда он верил, что в нем действительно поселился дьявол – всемогущий демиург, носитель восхитительного зла, блистательный интеллектуал преисподней, гений ночного неба. Он создал свою мифологию, в которой был отмечен момент, когда в него вселился дьявол.
Его размышления были прерваны Вероникой Степановной. Она смущенно появилась на пороге кабинета, все в том же наивном фартучке, с фиолетовым дымом пышных седых волос, держа в руках желтые резиновые перчатки:
– Хотела спросить, Михаил Львович, я могу убраться в кухне, протереть пол? Вы не собираетесь обедать или пить кофе?
– Нет, нет, – ответил Стрижайло, раздосадованный ее появлением, желая продолжить свои размышления. – Протирайте пол на здоровье.
Домработница ушла, притворив дверь, а он снова предался воспоминаниям и обдумываниям.
Он вспоминал дом на Палихе, где прошло его детство, без родителей, под присмотром бабушки, которая была ему и отцом, и матерью. Билась над ним, как наседка, взращивала, вскармливала, выхватывая из болезней, из тайных сиротских печалей, вымаливая у Бога благополучие для милого Мишеньки. Дом был четырехэтажный, без лифта, с тяжелой входной дверью, с полутемным сырым подвалом, от которого вверх возносилась лестница с деревянными перилами. Этот подвал был вместилищем его детских ужасов. В черной сырой глубине, в захламленном бомбоубежище, куда не ступала нога жильцов, таилось сонмище злых существ, таинственных беспощадных духов, подстерегавших его. Эти духи были не из детских сказок, не из опыта действительной жизни, где существовало много опасностей – хулиганы из соседнего двора, пьяный детина, выбегавший с топором на улицу, болезни, доводившие его до мучительного бреда. Эти страхи были безымянны, сопутствовали ему с младенчества. Существовали за пределами его души, являясь в жизнь, чтобы захватить, испугать и замучить. Эти духи свили гнездо в подвале. Там сторожили его, наполняли тьму бесформенным дымом, запахом тлена, из которого вдруг вспыхивали глаза ночной кошки, тянулись костлявые руки ведьмы. Открывая парадную дверь, входя в полутемный подъезд, он немедленно сталкивался с этими духами. Испытывал истошный ужас, кидался мимо подвала на лестницу. Взбегая ввысь, перелетал через ступени, слыша, как духи гонятся следом. Отрывались только тогда, когда он достигал второго этажа, где начинались двери квартир.
Это длилось годами и было невыносимо. Превратилось в детскую религию зла, в ощущение злого полюса мира, откуда исходят на него все напасти, все нынешние и грядущие беды, от которых он преждевременно и страшно погибнет. В его детстве, как и у всех сверстников, были шахматы, собирание монет и марок, увлечение дворовым футболом, походы всем двором в Тимирязевский парк, где купались в солнечном, теплом пруду, сновали между деревьев, и он впервые испытал к соседской девочке нечто, напоминавшее слезную, счастливую нежность, желание пожертвовать собой ради ее милого, веснушчатого лица. Но при этом оставался черный подвал, вместилище ужаса. Почти уже юноша, едва он ступал в подъезд, как несся сломя голову на лестницу, чувствуя за собой зеленые кошачьи глаза, костлявые руки, мертвенное дуновение преисподней.
В конце концов он решил с этим покончить. Или погибнуть от духов, или убедиться, что они не существуют, являются кошмарной фантазией его измученной с детства души. Он решил войти в подвал.
Возвращался из школы, неся в портфеле дневник с двумя пятерками – по истории и русскому языку. Представлял, как обрадуется бабушка, увидев две каллиграфические цифры, выведенные красными чернилами, – восхитится, поцелует его в лоб под пышный хохолок. Двор был в осенних, пронизанных солнцем кленах. Две соседки, поставив сумки, оживленно беседовали. Он приблизился к подъезду, намереваясь совершить свой религиозный подвиг, «сошествие во ад», – отдать себя на растерзание духов или победить их своим бесстрашием.
Отворил тяжелую, на пружине дверь. Свет улицы озарил длинный проход, слабо светящиеся ступени, линию деревянных перил, вдоль которых он обычно взлетал на второй этаж. Правее, неразличимо, черной, уходящей в бездну дырой зиял подвал. Уставился в него слепой ненавистью, будто читал его мысли, угадал его бунт, гипнотизировал безымянной волей. Захотелось шире распахнуть дверь и, пока она медленно закрывается, промчаться мимо подвала, ускользая от протянутых рук, взметнуться по лестнице, и к моменту, когда дверь тяжко ухнет, гася последний свет, он уже будет вне опасности, у квартир второго этажа, где, невидимые, копошатся жильцы, пахнет едой, ветхой утварью, чуть слышны голоса и шаги.
Одолел искушение. Отпустил дверь, ухнувшую за спиной. Стоял в темноте, чувствуя, как из подвала льются холодные ручейки тьмы, трогают его лицо, пытаясь по-слепецки, на ощупь, разглядеть смельчака, посягнувшего на могущество тьмы. Сделал несколько шагов, привыкая к мраку. В подвал вели две ступеньки, за которыми была бесформенная тьма, контуры каких-то обломков, и в этих обломках притаились духи. Зазывали к себе, мягко влекли, опутывали невидимой паутиной, клейкой сетью, обволакивали ужасом. Он трепетал, беззвучно повторяя: «Не боюсь… Вас нет… Вы просто дрянь, мусор…» Спустился вниз по ступенькам, чувствуя под ногами скользкую мокроту, липкую ветошь, от которой исходили запахи умершей материи. Так должна была пахнуть могила с тлеющими останками, в которые упирались его ноги. Эта могила сжималась, становилась тесней, была готова сомкнуться над ним, завалить мокрым, холодным тленом.
Он испытал ужас. Хотел рвануться обратно, но был парализован. Не мог шевельнуться, чувствуя, как под одежду проникают осторожные щупальца, готовые присосаться к груди, пить живые соки, впрыскивать парализующие яды. Пытался рвануться, но щупальца не пускали. Он понял, что умирает. Смерть, которая являлась во время болезненных бредов, была теперь с ним. Прижала к его груди холодные присоски.
Умирая, теряя дыханье, взмолился о пощаде. Обращался не к Богу солнечных небес, о котором говорила бабушка, а к черным духам преисподней, к которым вознамерился спуститься и попал под их власть. Мольба была бессловесна. Умолял отпустить его обратно в жизнь. Обещал находиться под вечной властью духов тьмы. Предлагал в обмен на жизнь все самое дорогое, чем владел. Коллекцию марок, красивый, выращенный бабушкой фикус, новые, парадные, купленные ему бабушкой ботинки, и в последний момент, безумной, преступной мыслью, – и саму бабушку, отдавая ее вместо себя злым духам, откупаясь ею перед лицом погибели.
Он не мог сказать, что это было. Из тьмы подвала, из бесформенной груды мусора что-то прянуло, словно стремительный вихрь, свистящий пронзительный ветер. Вонзилось в него. На мгновенье задержало свое острие. Превратило сердце в огромный ком тьмы, окруженный сверкающим блеском. Пронзив насквозь, унеслось из подвала. Он почувствовал, как освободились его ноги, как свободно вздохнула грудь. Вышел из подвала, раскрепощенный, улыбаясь. Медленно, не испытывая страха, стал подниматься по лестнице, держась за перила, туда, где звякнула дверь на втором этаже и раздались голоса соседок.
Это был момент, отмеченный его мифологической памятью, когда он зафиксировал вселившегося в него дьявола. В обычной жизни он не думал об этом. А думая, иронизировал, прятал в иронию таинственно мерцающую точку. Но иногда, в полудреме, между явью и сном, прежде чем впасть в забытье, верил в то, что стал избранником дьявола. Духи подвала переселились в него, стали двигать его поступками.
С тех пор он стремительно изменился. Утратил отроческую робость и муку, сомнение в своих силах, ощущение странной, окружавшей его тайны. Обрел веселую уверенность, страстное нетерпение, ощущение жизни, как неутомимой игры и неутолимого творчества. Его взросление было непрерывным преуспеванием, восхождением от успеха к успеху. Ему везло. Напасти, готовые его сокрушить, проносились мимо, как шальные пули у виска, поражая других. Он отмечал в себе эту перемену. Исполнился гордыней, чувством превосходства и избранности. Он отмахнулся от детства и отрочества, в которых присутствовали боль и вина. Отрезал себя от этих мешающих, останавливающих его состояний.
Очень скоро после встречи с духами преисподней умерла бабушка. Он тайно знал, что ее забрали духи, приняли его жертву, он повинен в бабушкиной смерти. И чтобы не испытывать эту вину, он постарался побыстрее забыть о бабушке. В крематории, где с бабушкой прощались немногочисленные родственники и где ее маленькое тело поглотила геенна огненная, он даже не забрал урну с прахом. Так и оставил ее в распоряжении служителей крематория, которые развеяли пепел в подмосковных туманах.
Лежа на диване, занимаясь медитацией, он видел свой генетический код, свой «молекулярный портрет». Две спирали вращались в разные стороны. Огненно-красная, похожая на пылающую ночную рекламу, – иероглиф его успеха, ненасытный червь наслаждений, формула блистательного таланта и неиссякаемых возможностей. И слабый голубой завиток, робкое облачко в лазури, готовое исчезнуть, – притаившиеся в душе сострадание, упование на добро и любовь, нежное воспоминание о бабушке.
Он услышал звук, похожий на жужжание жука, который влетает в окно, ударяется о настольную лампу, падает на стол вверх ногами. Шевелится, силится раскрыть хитиновые надкрылья, хочет перевернуться, издавая тревожное жужжание. Это верещал и вибрировал сотовый телефон, три месяца молча пролежавший на столе. Секретный, «законсервированный» номер, предназначенный для одного-единственного абонента – находящегося в Лондоне Роя Верхарна, опального олигарха, который, спасаясь от тюрьмы, эмигрировал в Англию. Подвергнутый в России демонизации, преданный друзьями, оставленный испуганными сотоварищами, он рассылал из Лондона молнии своей ненависти к Президенту, вынашивал планы возмездия. Стрижайло был из немногих, кто не отвернулся от злосчастного миллиардера, не включился в хор травли, высказывал в его адрес публичные, сдержанно-комплиментарные характеристики. Телефон был куплен для экстренной связи. Еще не засвеченный прослушкой, недоступный всеведущему уху ФСБ, был «горячей линией» между Верхарном и Стрижайло. Молчал долгие месяцы и вдруг заверещал, как шевелящийся майский жук.
– Ну как вы там, Мишель, поживаете? Слежу за московской политикой, анализирую предстоящие выборы. Мне кажется, у коммунистов есть грандиозный шанс. Бездарная и пошлая власть делает все, чтобы народ валом повалил к коммунистам. У них есть исторический шанс взять реванш за поражение девяносто первого года. Это говорю вам я, стопроцентный враг коммунистов. Они должны использовать этот шанс.
– Согласен, Рой. Я разрабатываю для них выборную стратегию. Но коммунисты – это те, кто постоянно не используют свой шанс.
Стрижайло держал около уха урчащую лепешечку телефона, с удовольствием представляя Верхарна по другую сторону земли. Узкое, стеариново-желтое лицо. Редкий начес волос на лысеющий череп. Маленький стиснутый рот. Чуткий нос, напоминающий нервный хоботок. Бегающие, как у зверька, пронзительно-умные глаза, которые вдруг замирали, превращались в блестящие черные шарики, а потом начинали скакать, мерцать, разбегаться в разные стороны, что соответствовало разным стадиям мыслительного процесса, приближению или удалению гениального решения.
– Им надо помочь использовать шанс, потому что парадокс заключается в том, что это одновременно и шанс демократии. Только коммунисты способны сохранить демократические завоевания и остановить сползание России к фашистской диктатуре. Это говорю вам я, который дважды в минувшее десятилетие останавливал коммунистов, не давал им прорваться к власти. Сейчас необходимо в их дряблое, но обильное тесто, в их коммунистическую квашню, добавить дрожжей, чтобы они быстрее созрели.
– Вы хотите сказать, что в пекарнях Лондона появились хорошие дрожжи?
Голос Верхарна, не искаженный мембраной, звучал близко, с непродаваемыми блеющими интонациями, с частым заиканием. Как будто торопящаяся, бурно извергаемая мысль не умещалась в слова, опережала их, натыкалась на ограниченную в своих размерах фразу, стремилась продырявить ее конец, где и возникал срыв речи, блеяние бекаса, конфликт слова и мысли, предвестник микроинсульта.
– Потуги Маковского влиять на выборный процесс смехотворны. Говорю вам не потому, что он мой противник, а потому, что он объективно слаб. Его сила основывалась на близости к Президенту, когда он делился с Кремлем доходами и не помышлял о собственной политической роли. Теперь же он рискует возбудить против себя ненависть этого маленького, мнительного человечка, который ничего никому не прощает. И неизвестно, где окажется Маковский – здесь, в Лондоне, или в Бутырской тюрьме. Чтобы победить в России, надо убивать, а он проповедует. Проповедников в России вешают за яйца.
– Вы удивительно прозорливы, Рой. Я только что был у Маковского. Он хочет использовать мои возможности. По-моему, он собирается стать Президентом.
Стрижайло представлял Верхарна на каменной площадке перед его великолепным викторианским замком в предместьях Лондона. Вид на необъятный зеленый газон с громадными деревьями, под которыми перебегают пугливые лани. Зеркальные пруды, с которых взлетают казарки. И над синими туманами весенних дубрав парит самолет, снижаясь к аэропорту Хитроу.
– Вы обратили внимание на рыжий, ястребиный глаз Маковского? Мак силен и прозорлив до той поры, пока в глазном яблоке у него мерцает око хищной птицы. Кто вырвет глаз, тот и победит Маковского.
– «Глаз вопиющего в пустыне» произвел на меня огромное впечатление. Именно этим глазом он вас сглазил, Рой?
Стрижайло восхитило мифологическое сознание Верхарна. Как лишенный бороды Черномор терял свою сказочную мощь, как оторванный от земли Антей утрачивал свою неодолимость, так и Маковский, по утверждению Верхарна, лишившись глаза, превращался в немощного карлика. Глаз Маковского был ахиллесовой пятой, уязвимой точкой могущества. Этот языческий мифологизм придавал Верхарну оттенок безумия, столь необходимого для любого творчества. Именно это безумие сближало Стрижайло с Верхарном, указывало на их таинственное родство, как если бы в детстве у Верхарна был свой подвал – убежище «духов тьмы», которые переселились в измученную душу ребенка.
– Мишель, поверьте мне, Маковскому никогда не стать Президентом. Я – специалист по изготовлению Президентов. Когда прошлый Президент превратился в груду опилок, на которую мочилась любая собачка, я собрал опилки в совочек, высушил и насыпал в новый чехол. После этого Президент еще три года правил Россией. Нынешнего Президента я выстругал из деревянной чурки, которую подобрал, прогуливаясь на даче в Барвихе.
Вероника Степановна ушла, притворив за собою дверь. Стрижайло снова улегся на диван, больше не касаясь газеты.
Иногда его посещала странная форма самосознания. Концентрируясь на себе, он представлял себя не в виде бестелесного «я», отделенного от плоти и существующего где-то вне тела. Не в форме разума, наполненного гулом клубящихся мыслей, способного сжаться в концентрированную жаркую точку, из которой раскручивается галактическая спираль. Не в виде одной, самодовлеющей части тела, становящейся вдруг центром всего организма, как, например, нестерпимо ноющий зуб, в который переместилось страдающее «я», или возбужденный похотью пах, в котором «я», расщепленное на множество обезумевших клеток, слиплось в раскаленную плазму.
Это было особое самоощущение, когда он сознавал себя на молекулярном уровне. Он – разделен на бесчисленное множество равнозначных живых пузырьков, крохотных беспокойных частичек, в каждой из которых во всей полноте присутствует его личность. Истребленная в одной части тела, которое может быть подвергнуто ампутации – лишено конечности, глаза, почки или полушария мозга, – его личность с исчерпывающей целостностью сохраняется в других молекулах, как крохотный лик в медальоне, как отражение в зеркальном калейдоскопе. Он чувствовал себя нарисованным портретом, где каждый мазок является уменьшенной копией общего изображения.
Испытывая эти гносеологические откровения, не встречая упоминаний о них ни в философских трактатах, ни в медитативных инструкциях, Стрижайло полагал, что ему дано особое сознание, на уровне генетического кода, который и является истинным вместилищем личности – ее текущей фазы, а также всех фаз, от рождения до смерти.
И если развить в себе это уникальное самосознание, то можно проникнуть в свою «преджизнь», а также в «постжизнь», пережить идею бессмертия.
Он лежал на диване и чувствовал себя скопищем бесчисленных пузырьков, как если бы был ванной с кипящей минеральной водой. Пузырьки взлетали и лопались, сливались и измельчались, кружили по странным орбитам и переливались, ввергнутые в броуновское движение. И в каждом пузырьке был он сам, как в крохотной икринке, – перевертывался, смещался, сталкивался с самим собой. Эти видения сопровождались таинственной музыкой. Каждая молекула издавала свой особенный звук, источала микроскопическую гармонику, которая, сливаясь с соседней, превращалась в немолкнущий хор, какой вдруг наполняет огромное дерево с мириадами поющих цикад. Звук не был бессмысленным шумом. В нем присутствовала мелодия, тема, музыкальное повествование о его, Стрижайло, жизни, о его неповторимой судьбе.
Ему казалось, что если записать эту музыку на чувствительный прибор, исследовать и расшифровать, то можно угадать его характер, свойства натуры, духовные и телесные немощи, тайные побуждения и страхи. Предсказать его судьбу, предначертать ожидающие его потрясения. Этой музыкой, если ее перенести на пленку, усилить и ненароком транслировать в пространство, где он находился, можно управлять его поступками, определять ход мыслей, влиять на судьбу. В руках друга эта музыка могла оказаться целительным средством. Но, оказавшись в руках врага, превращалась в оружие, способное его погубить, направить на путь катастрофы.
Утонченный меломан, вслушиваясь в музыку молекул, мог выделить сложные хоралы, которые звучали в той или иной части тела. Особую музыку источало сердце – иногда это была Маленькая серенада Моцарта, а иногда «Аппассионата» Бетховена. По-особому звучал зрачок – то были фортепьянные этюды Скарлатти. Пах был наполнен музыкой Скрябина. Печень звучала как Брамс. Легкие исполняли Фугу Баха. Зуб, если он болел, звучал как свадебный марш Мендельсона. Поясница, когда в нее вдруг «ступало», играла симфонию Шостаковича. А пульсирующая на горле артерия повторяла Прокофьева.
Стрижайло казалось, что в биоинженерной лаборатории, на стерильных стеллажах стоят стеклянные банки с физиологическим раствором, в котором продолжают жить извлеченные из тела органы. Красное, с обрезанными трубочками сердце. Млечно-серые, пузырящиеся легкие с разъятыми воздуховодами. Фиолетовая, с прожилками печень.
Матка с вывернутым складчатым раструбом. К органам подведены электроды. Снимаются электрические гармоники. Пропущенные через микрофон, превращаются в произведения классической музыки, транслируются по «Радио России».
Вот почему патологоанатомические картины Тишкова имели для Стрижайло музыкальный аналог в виде концертной программы консерватории.
Стрижайло был убежден, что великие открытия в области генетики, биоинженерии и клонирования были сделаны музыкантами, создающими экспериментальную музыку. «Музыке сфер» в макромире, где каждая планета, астероид и комета издают небесную мелодию, – этой космической симфонии в микромире соответствует «музыка молекул». Композиторы Шнитке и Артемьев, изумлявшие публику своими несуразными, малопонятными творениями, на самом деле перекладывали на ноты, записывали в партитуры «адажио» циррозной печени, «кончерто гроссе» инфарктного сердца, «скерцо» инсультного мозга. Именно так, сутками просиживая в анатомических театрах, не спуская глаз со стеклянных банок, где, похожие на морских осьминогов и кальмаров, плавали иссеченные органы, эти композиторы написали лучшие свои произведения, ставшие сегодня классикой. Там же, среди драгоценных банок, записывая «музыку молекул», они открыли геном человека. Расшифровали генетический код, создав его музыкальный аналог. В последнее время работы композиторов-экспериментаторов были засекречены, сами они исчезли из вида, их имена пропали из концертных программ.
Поговаривали, что их всех поместили в шарашку ФСБ, где, в прекрасных условиях, с новейшей электронно-акустической аппаратурой, они создают «музыкальную бомбу» – новейший вид оружия, способного полностью перекодировать генетический код человека. На закрытом полигоне под Вологдой на столбах были закреплены репродукторы, сквозь которые транслировалась «экспериментальная музыка». В результате патриархальные крестьяне окрестных деревень утратили славянскую внешность, обрели сходство с кавказцами, бойко говорят на чеченском, торгуют оружием и наркотиками.
Сейчас он лежал на спине, закрыв глаза. Медитировал, воображая свой генетический код. Свой «электронный портрет», каким бы изобразил его новый Шилов, художник технотронного века.
Этот портрет представлялся ему в виде двух спиралей, совершающих винтообразные движения в противоположные стороны. Одна спираль, ярко-красная, неоновая, воплощала в себе страстные, креативные силы его натуры, среди которых напрочь отсутствовали этика, моральные побуждения, долг. Творческая энергия, увлекательная игра, неутолимое наслаждение заставляли вращаться эту неоновую спираль, пылающую над ним подобно ночной рекламе. Вторая спираль была едва очерчена, туманно-голубая и блеклая. Чуть заметно вращалась, готовая остановиться. С этой спиралью были связаны печальные воспоминания детства, где присутствовали нежность к бабушке, болезненная беззащитность, безымянная, не имеющая воплощения любовь. Эта спираль напоминала вьющуюся струйку дыма, которую вот-вот снесет и развеет ветер.
Две эти сути – явная, доминирующая, управляющая его побуждениями и поступками и тайная, непроявленная, живущая на далекой периферии личности, – эта двойственность была для него загадкой, иногда забавной, иногда мучительной. Как если бы у сильной, стремительной рыбы, господствующей в океане, присутствовали недоразвитые, ненужные плавники. В определенных условиях, при иссыхании океана, они могли преобразоваться в крылья.
Превратить рыбу в птицу. Продлить ее существование в измененной среде.
Неоновая спираль, которая извивалась в нем, как неутомимый, пульсирующий червячок, рубиново-красный мотыль, и была тем таинственным зародышем, что вдруг бурно разрастался, превращался в гигантского, набрякшего красными соками червя. Толкал в авантюры, в безжалостные, аморальные предприятия, побуждал к бесчеловечным поступкам. «Дьявольская энергия», «дьявольская изобретательность», «дьявольская везучесть» – так говорили о нем за спиной. Иногда он верил, что в нем действительно поселился дьявол – всемогущий демиург, носитель восхитительного зла, блистательный интеллектуал преисподней, гений ночного неба. Он создал свою мифологию, в которой был отмечен момент, когда в него вселился дьявол.
Его размышления были прерваны Вероникой Степановной. Она смущенно появилась на пороге кабинета, все в том же наивном фартучке, с фиолетовым дымом пышных седых волос, держа в руках желтые резиновые перчатки:
– Хотела спросить, Михаил Львович, я могу убраться в кухне, протереть пол? Вы не собираетесь обедать или пить кофе?
– Нет, нет, – ответил Стрижайло, раздосадованный ее появлением, желая продолжить свои размышления. – Протирайте пол на здоровье.
Домработница ушла, притворив дверь, а он снова предался воспоминаниям и обдумываниям.
Он вспоминал дом на Палихе, где прошло его детство, без родителей, под присмотром бабушки, которая была ему и отцом, и матерью. Билась над ним, как наседка, взращивала, вскармливала, выхватывая из болезней, из тайных сиротских печалей, вымаливая у Бога благополучие для милого Мишеньки. Дом был четырехэтажный, без лифта, с тяжелой входной дверью, с полутемным сырым подвалом, от которого вверх возносилась лестница с деревянными перилами. Этот подвал был вместилищем его детских ужасов. В черной сырой глубине, в захламленном бомбоубежище, куда не ступала нога жильцов, таилось сонмище злых существ, таинственных беспощадных духов, подстерегавших его. Эти духи были не из детских сказок, не из опыта действительной жизни, где существовало много опасностей – хулиганы из соседнего двора, пьяный детина, выбегавший с топором на улицу, болезни, доводившие его до мучительного бреда. Эти страхи были безымянны, сопутствовали ему с младенчества. Существовали за пределами его души, являясь в жизнь, чтобы захватить, испугать и замучить. Эти духи свили гнездо в подвале. Там сторожили его, наполняли тьму бесформенным дымом, запахом тлена, из которого вдруг вспыхивали глаза ночной кошки, тянулись костлявые руки ведьмы. Открывая парадную дверь, входя в полутемный подъезд, он немедленно сталкивался с этими духами. Испытывал истошный ужас, кидался мимо подвала на лестницу. Взбегая ввысь, перелетал через ступени, слыша, как духи гонятся следом. Отрывались только тогда, когда он достигал второго этажа, где начинались двери квартир.
Это длилось годами и было невыносимо. Превратилось в детскую религию зла, в ощущение злого полюса мира, откуда исходят на него все напасти, все нынешние и грядущие беды, от которых он преждевременно и страшно погибнет. В его детстве, как и у всех сверстников, были шахматы, собирание монет и марок, увлечение дворовым футболом, походы всем двором в Тимирязевский парк, где купались в солнечном, теплом пруду, сновали между деревьев, и он впервые испытал к соседской девочке нечто, напоминавшее слезную, счастливую нежность, желание пожертвовать собой ради ее милого, веснушчатого лица. Но при этом оставался черный подвал, вместилище ужаса. Почти уже юноша, едва он ступал в подъезд, как несся сломя голову на лестницу, чувствуя за собой зеленые кошачьи глаза, костлявые руки, мертвенное дуновение преисподней.
В конце концов он решил с этим покончить. Или погибнуть от духов, или убедиться, что они не существуют, являются кошмарной фантазией его измученной с детства души. Он решил войти в подвал.
Возвращался из школы, неся в портфеле дневник с двумя пятерками – по истории и русскому языку. Представлял, как обрадуется бабушка, увидев две каллиграфические цифры, выведенные красными чернилами, – восхитится, поцелует его в лоб под пышный хохолок. Двор был в осенних, пронизанных солнцем кленах. Две соседки, поставив сумки, оживленно беседовали. Он приблизился к подъезду, намереваясь совершить свой религиозный подвиг, «сошествие во ад», – отдать себя на растерзание духов или победить их своим бесстрашием.
Отворил тяжелую, на пружине дверь. Свет улицы озарил длинный проход, слабо светящиеся ступени, линию деревянных перил, вдоль которых он обычно взлетал на второй этаж. Правее, неразличимо, черной, уходящей в бездну дырой зиял подвал. Уставился в него слепой ненавистью, будто читал его мысли, угадал его бунт, гипнотизировал безымянной волей. Захотелось шире распахнуть дверь и, пока она медленно закрывается, промчаться мимо подвала, ускользая от протянутых рук, взметнуться по лестнице, и к моменту, когда дверь тяжко ухнет, гася последний свет, он уже будет вне опасности, у квартир второго этажа, где, невидимые, копошатся жильцы, пахнет едой, ветхой утварью, чуть слышны голоса и шаги.
Одолел искушение. Отпустил дверь, ухнувшую за спиной. Стоял в темноте, чувствуя, как из подвала льются холодные ручейки тьмы, трогают его лицо, пытаясь по-слепецки, на ощупь, разглядеть смельчака, посягнувшего на могущество тьмы. Сделал несколько шагов, привыкая к мраку. В подвал вели две ступеньки, за которыми была бесформенная тьма, контуры каких-то обломков, и в этих обломках притаились духи. Зазывали к себе, мягко влекли, опутывали невидимой паутиной, клейкой сетью, обволакивали ужасом. Он трепетал, беззвучно повторяя: «Не боюсь… Вас нет… Вы просто дрянь, мусор…» Спустился вниз по ступенькам, чувствуя под ногами скользкую мокроту, липкую ветошь, от которой исходили запахи умершей материи. Так должна была пахнуть могила с тлеющими останками, в которые упирались его ноги. Эта могила сжималась, становилась тесней, была готова сомкнуться над ним, завалить мокрым, холодным тленом.
Он испытал ужас. Хотел рвануться обратно, но был парализован. Не мог шевельнуться, чувствуя, как под одежду проникают осторожные щупальца, готовые присосаться к груди, пить живые соки, впрыскивать парализующие яды. Пытался рвануться, но щупальца не пускали. Он понял, что умирает. Смерть, которая являлась во время болезненных бредов, была теперь с ним. Прижала к его груди холодные присоски.
Умирая, теряя дыханье, взмолился о пощаде. Обращался не к Богу солнечных небес, о котором говорила бабушка, а к черным духам преисподней, к которым вознамерился спуститься и попал под их власть. Мольба была бессловесна. Умолял отпустить его обратно в жизнь. Обещал находиться под вечной властью духов тьмы. Предлагал в обмен на жизнь все самое дорогое, чем владел. Коллекцию марок, красивый, выращенный бабушкой фикус, новые, парадные, купленные ему бабушкой ботинки, и в последний момент, безумной, преступной мыслью, – и саму бабушку, отдавая ее вместо себя злым духам, откупаясь ею перед лицом погибели.
Он не мог сказать, что это было. Из тьмы подвала, из бесформенной груды мусора что-то прянуло, словно стремительный вихрь, свистящий пронзительный ветер. Вонзилось в него. На мгновенье задержало свое острие. Превратило сердце в огромный ком тьмы, окруженный сверкающим блеском. Пронзив насквозь, унеслось из подвала. Он почувствовал, как освободились его ноги, как свободно вздохнула грудь. Вышел из подвала, раскрепощенный, улыбаясь. Медленно, не испытывая страха, стал подниматься по лестнице, держась за перила, туда, где звякнула дверь на втором этаже и раздались голоса соседок.
Это был момент, отмеченный его мифологической памятью, когда он зафиксировал вселившегося в него дьявола. В обычной жизни он не думал об этом. А думая, иронизировал, прятал в иронию таинственно мерцающую точку. Но иногда, в полудреме, между явью и сном, прежде чем впасть в забытье, верил в то, что стал избранником дьявола. Духи подвала переселились в него, стали двигать его поступками.
С тех пор он стремительно изменился. Утратил отроческую робость и муку, сомнение в своих силах, ощущение странной, окружавшей его тайны. Обрел веселую уверенность, страстное нетерпение, ощущение жизни, как неутомимой игры и неутолимого творчества. Его взросление было непрерывным преуспеванием, восхождением от успеха к успеху. Ему везло. Напасти, готовые его сокрушить, проносились мимо, как шальные пули у виска, поражая других. Он отмечал в себе эту перемену. Исполнился гордыней, чувством превосходства и избранности. Он отмахнулся от детства и отрочества, в которых присутствовали боль и вина. Отрезал себя от этих мешающих, останавливающих его состояний.
Очень скоро после встречи с духами преисподней умерла бабушка. Он тайно знал, что ее забрали духи, приняли его жертву, он повинен в бабушкиной смерти. И чтобы не испытывать эту вину, он постарался побыстрее забыть о бабушке. В крематории, где с бабушкой прощались немногочисленные родственники и где ее маленькое тело поглотила геенна огненная, он даже не забрал урну с прахом. Так и оставил ее в распоряжении служителей крематория, которые развеяли пепел в подмосковных туманах.
Лежа на диване, занимаясь медитацией, он видел свой генетический код, свой «молекулярный портрет». Две спирали вращались в разные стороны. Огненно-красная, похожая на пылающую ночную рекламу, – иероглиф его успеха, ненасытный червь наслаждений, формула блистательного таланта и неиссякаемых возможностей. И слабый голубой завиток, робкое облачко в лазури, готовое исчезнуть, – притаившиеся в душе сострадание, упование на добро и любовь, нежное воспоминание о бабушке.
Он услышал звук, похожий на жужжание жука, который влетает в окно, ударяется о настольную лампу, падает на стол вверх ногами. Шевелится, силится раскрыть хитиновые надкрылья, хочет перевернуться, издавая тревожное жужжание. Это верещал и вибрировал сотовый телефон, три месяца молча пролежавший на столе. Секретный, «законсервированный» номер, предназначенный для одного-единственного абонента – находящегося в Лондоне Роя Верхарна, опального олигарха, который, спасаясь от тюрьмы, эмигрировал в Англию. Подвергнутый в России демонизации, преданный друзьями, оставленный испуганными сотоварищами, он рассылал из Лондона молнии своей ненависти к Президенту, вынашивал планы возмездия. Стрижайло был из немногих, кто не отвернулся от злосчастного миллиардера, не включился в хор травли, высказывал в его адрес публичные, сдержанно-комплиментарные характеристики. Телефон был куплен для экстренной связи. Еще не засвеченный прослушкой, недоступный всеведущему уху ФСБ, был «горячей линией» между Верхарном и Стрижайло. Молчал долгие месяцы и вдруг заверещал, как шевелящийся майский жук.
– Ну как вы там, Мишель, поживаете? Слежу за московской политикой, анализирую предстоящие выборы. Мне кажется, у коммунистов есть грандиозный шанс. Бездарная и пошлая власть делает все, чтобы народ валом повалил к коммунистам. У них есть исторический шанс взять реванш за поражение девяносто первого года. Это говорю вам я, стопроцентный враг коммунистов. Они должны использовать этот шанс.
– Согласен, Рой. Я разрабатываю для них выборную стратегию. Но коммунисты – это те, кто постоянно не используют свой шанс.
Стрижайло держал около уха урчащую лепешечку телефона, с удовольствием представляя Верхарна по другую сторону земли. Узкое, стеариново-желтое лицо. Редкий начес волос на лысеющий череп. Маленький стиснутый рот. Чуткий нос, напоминающий нервный хоботок. Бегающие, как у зверька, пронзительно-умные глаза, которые вдруг замирали, превращались в блестящие черные шарики, а потом начинали скакать, мерцать, разбегаться в разные стороны, что соответствовало разным стадиям мыслительного процесса, приближению или удалению гениального решения.
– Им надо помочь использовать шанс, потому что парадокс заключается в том, что это одновременно и шанс демократии. Только коммунисты способны сохранить демократические завоевания и остановить сползание России к фашистской диктатуре. Это говорю вам я, который дважды в минувшее десятилетие останавливал коммунистов, не давал им прорваться к власти. Сейчас необходимо в их дряблое, но обильное тесто, в их коммунистическую квашню, добавить дрожжей, чтобы они быстрее созрели.
– Вы хотите сказать, что в пекарнях Лондона появились хорошие дрожжи?
Голос Верхарна, не искаженный мембраной, звучал близко, с непродаваемыми блеющими интонациями, с частым заиканием. Как будто торопящаяся, бурно извергаемая мысль не умещалась в слова, опережала их, натыкалась на ограниченную в своих размерах фразу, стремилась продырявить ее конец, где и возникал срыв речи, блеяние бекаса, конфликт слова и мысли, предвестник микроинсульта.
– Потуги Маковского влиять на выборный процесс смехотворны. Говорю вам не потому, что он мой противник, а потому, что он объективно слаб. Его сила основывалась на близости к Президенту, когда он делился с Кремлем доходами и не помышлял о собственной политической роли. Теперь же он рискует возбудить против себя ненависть этого маленького, мнительного человечка, который ничего никому не прощает. И неизвестно, где окажется Маковский – здесь, в Лондоне, или в Бутырской тюрьме. Чтобы победить в России, надо убивать, а он проповедует. Проповедников в России вешают за яйца.
– Вы удивительно прозорливы, Рой. Я только что был у Маковского. Он хочет использовать мои возможности. По-моему, он собирается стать Президентом.
Стрижайло представлял Верхарна на каменной площадке перед его великолепным викторианским замком в предместьях Лондона. Вид на необъятный зеленый газон с громадными деревьями, под которыми перебегают пугливые лани. Зеркальные пруды, с которых взлетают казарки. И над синими туманами весенних дубрав парит самолет, снижаясь к аэропорту Хитроу.
– Вы обратили внимание на рыжий, ястребиный глаз Маковского? Мак силен и прозорлив до той поры, пока в глазном яблоке у него мерцает око хищной птицы. Кто вырвет глаз, тот и победит Маковского.
– «Глаз вопиющего в пустыне» произвел на меня огромное впечатление. Именно этим глазом он вас сглазил, Рой?
Стрижайло восхитило мифологическое сознание Верхарна. Как лишенный бороды Черномор терял свою сказочную мощь, как оторванный от земли Антей утрачивал свою неодолимость, так и Маковский, по утверждению Верхарна, лишившись глаза, превращался в немощного карлика. Глаз Маковского был ахиллесовой пятой, уязвимой точкой могущества. Этот языческий мифологизм придавал Верхарну оттенок безумия, столь необходимого для любого творчества. Именно это безумие сближало Стрижайло с Верхарном, указывало на их таинственное родство, как если бы в детстве у Верхарна был свой подвал – убежище «духов тьмы», которые переселились в измученную душу ребенка.
– Мишель, поверьте мне, Маковскому никогда не стать Президентом. Я – специалист по изготовлению Президентов. Когда прошлый Президент превратился в груду опилок, на которую мочилась любая собачка, я собрал опилки в совочек, высушил и насыпал в новый чехол. После этого Президент еще три года правил Россией. Нынешнего Президента я выстругал из деревянной чурки, которую подобрал, прогуливаясь на даче в Барвихе.