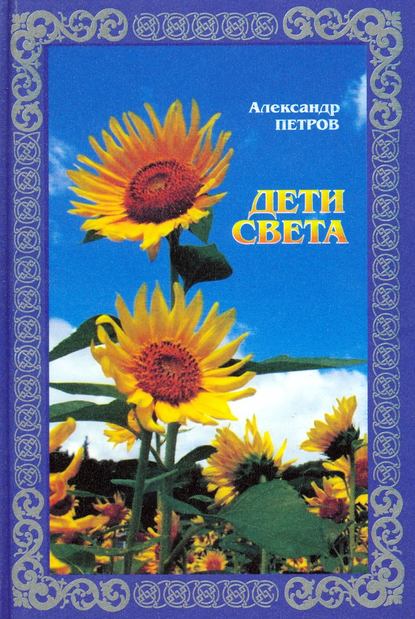По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дети света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наконец на горизонте показался островок сочной зелени. Они подошли ближе. Это река. Вода блестела, как сказочный мираж. Там прохлада. Там можно напиться. Там можно выжить. Свою липкую одежду Борис начал сбрасывать еще метров за сорок до воды. Когда под босыми ступнями зачавкала серая глина, когда мутная зеленая вода забурлила у его ног, а болотистый запах ударил в воспаленные ноздри, – он засмеялся, как мальчишка. Плескался и нырял, бил руками по воде, рассыпая вокруг каскады радужных брызг, наглотался терпкой речной воды…
Но где же мальчик? Борис нащупал илистое дно, встал на ноги и оглянулся. Антон стоял на берегу и задумчиво грыз травинку. Одежда его старшего спутника аккуратной стопкой лежала у ног мальчика, на островке сухой желтоватой травы.
Борис вышел на берег и стал одеваться. Автоматически похлопал себя по карманам. Кошелек отсутствовал. Поднял глаза на воришку. Тот стоял монументом, не собираясь ни бежать, ни оправдываться.
– Ты сам напросился, – ответил его спокойный взгляд.
– Ладно, как хочешь, – пожал плечами Борис.
Они снова шагали по степи. Только после купания Борису стало намного легче. Да и солнце понемногу скатывалось к горизонту, и ветерок стал задувать. Теплый, но приятный. Хотя его физиономия горела, от солнечного ожога, как от стыда. А этот денди в джинсовом костюме, как ни в чем не бывало, легко ступал, как на утренней прогулке в парке. Мальчуган угловато размахивал руками и даже иногда подпрыгивал на кочках. И хоть бы что. Ни жара, ни жажда, ни солнце для него будто не существовали.
Ночевать они напросились в старенький домик-мазанку на краю хутора. На скамейке у этой развалюшки устало сидела загоревшая до каштанового цвета сухонькая старушонка. Она сразу их впустила. Внутри хата имела вид вполне обжитой. Всюду висели какие-то кисейные занавески, вышитые рушники, под ногами – толстые тканые половики. Всё – ручной работы, уютное и доброе.
Путников кормили густым борщом. На толстый кусок серого ноздристого хлеба они намазывали бордовый хрен с бураком. После жары не очень-то хотелось горячего. Но стоило только Борису съесть первую ложку, потом вторую, как он облился горячим потом, – и сразу полегчало. Заботливая баба Ганна смущенно набросила на их плечи рушники с петухами. Они обтирались ими, как после бани. И снова она сидела в уголке, подперев ручкой щеку, кротко потупив добрые грустные глаза. А когда они поблагодарили ее, она ответила «звыняйтэ». Потом налила в кружки козьего молока, густого и горьковатого от полыни.
Спать их положили в сарае на матрасах, набитых соломой. Здесь пахло навозом и прелой травой, степью и рекой, волей и сбывшейся сказкой. За перегородкой сонно квохтали куры и вздыхала коза. Где-то рядом ритмично скрипел сверчок. Под небом, под этим земным небом, право же, «счастья нет, но есть покой и воля».
Внезапно посреди заслуженной тишины Борис ощутил укол совести. «Как же так, – проворчал он под нос, – у меня теперь новенький, как блестящий полтинник, крестник, а я совсем не занимаюсь его катехизацией». Присели они на шуршащих матрасах и начали с обучения неофита краткому правилу преподобного Серафима Саровского. А потом по памяти восприемник стал рассказывать крестнику притчи из Евангелия. А начал он, как водится, про блудного сына. Антон внимательно слушал и задумчиво кивал.
– Еще? – спросил его Борис.
– Да, если можно, – плавно опустилась голова крестника.
– Ну, слушай… – продолжил он, испытывая непередаваемое чувство взаимного интереса.
Ранним утром их разбудил вопль петуха. Борис выскочил из сарая, чтобы посмотреть на это. Огромный рыжий зверюга с хищными шпорами на могучих широко расставленных лапах стоял на плетне и напряженно ревел, как раненный лев. Пегие курочки, отложив привычное клевание, любовались солистом, готовые по окончании арии устроить бурные овации. «Браво, маэстро!» – похлопал Борис. Но тот, надменно задрав клюв, даже не удостоил публику взглядом.
Умывшись под грохочущим жестяным умывальником, они встали на молитву. Бабушка удивленно зажгла лампаду и тихо присоединилась.
После обильного завтрака баба Ганна вручила им косы и тележку на колесах. И махнула ручкой в сторону поймы реки. Накормив козу свежей травкой, после обеда они обрезали сухие ветви огромной груши и высоченной вишни. Потом ездили на ферму за навозом, потом его мешали с прелой травой и укладывали под деревья и кусты. А вечером ловили рыбу ветхим, но загребущим бреднем.
Наверное, если бы не соседство молчаливого крестника, Борис почаще бы устраивал перекуры. Только мальчишка работал, как двужильный, и старшему приходилось подтягиваться, несмотря на ломоту в спине и тяжесть в руках. За ужином баба Ганна рассказывала, как на старости лет она при четверых детях осталась одна-одинешенька. И говорила об этом тихо и спокойно. Обращалась при этом больше к молчаливому Антону, который сочувственно шмыгал носом и кивал головой.
Зато перед сном они вместе вычитывали правило. А еще по просьбе крестника Борис читал главу из Евангелия, старинного, толстого и пахнувшего ладаном.
А на следующий день к бабе Ганне одна за другой стали подходить такие же одинокие вдовушки, растерявшие детей по большим городам. Отказать им ни баба Ганна, ни Борис с Антоном не смогли.
…В то лето Борис кое-чему научился. Например, наедаться утром про запас, как удав. Ходить стал легко и без устали. Привык переносить жажду. Научился спать под открытым небом. Стал неплохим косарем и рубщиком дров, рыбаком и пастухом. Даже месить глину и штукатурить мазанки, даже белить выучился. Его ладони покрылись мозолями, лицо загорело дочерна, тело налилось силой и упругостью. Молитва и труд укрепили веру. Но самое главное – Борис научился молчать. И молча перебирать самодельные четки, глядя на пламенеющий восток. Там восход будущего, там старенький храм, куда они ходили причащаться.
Так что стали они оба немы: Антон и Борис. Им было о чем помолчать.
Новые старые знакомые
Родион закрыл дверь за последним посетителем и вызвал секретаря. Выпускник юридического факультета Гарварда вошел в кабинет и вытянулся в струнку с блокнотом в руках.
– В следующий раз, Виктор Васильевич, я здесь появлюсь через неделю. Остаетесь за меня. В случае чего, звоните на сотовый. Но, предупреждаю: только в крайнем случае. У меня накопились срочные дела.
«Ох, и нагрузил ты меня, Борис Витальевич! – вздыхал Родион, выходя из особняка. – Сам-то, поди, вольным ветром степей дышишь, а мне тут денежные проблемы твои разгребать. Ну, тратить эту презренную материю – ладно. Это даже как-то приятно. Но контролировать денежные потоки, имея дело с людьми жадными и готовыми подметки из-под тебя выдернуть… Если бы не покров Божий, меня эти волки давно бы съели. Ничего, ничего, ради нашего детища, ради Братства Иоанна Богослова можно и потерпеть маленько. Да и ты, Борис Витальевич, как пить дать, вернешься другим».
Братство размещалось недалеко от особняка Бориса, на границе с садовым товариществом в просторном двухэтажном доме на берегу речки. От «той самой остановки» к дому вела красивая дорога с фонарями, цветами, голубыми елочками – это, чтобы людей привлекать. Дорога на берегу реки заканчивалась площадкой со скамейками и охраняемой стоянкой для машин. Работали в доме те самые «опоздавшие на автобус», которых сумел подружить и объединить Родион. Братство занималось иконописью, торговало книгами и утварью, а также восстанавливало храм. Ради этого Родион и согласился заменить Бориса, пока тот «ищет себя».
В Братстве каждый работал на своем месте. Иннокентий консультировал покупателей, предлагая на выбор книги. Надежда обзванивала по телефону иногородних закупщиков. Мама Вера с Танечкой писали заказную храмовую икону. Практичный Василий руководил реставрацией храма. Тот самый послушник Гена, а сейчас иеромонах Геннадий, благословив рабочий день, обходил с требами прихожан. Родион поговорил с людьми, записал все вопросы и отбыл в Москву.
Сегодня отец Никодим служил на новом месте. Родион потратил немало времени, чтобы отыскать его. Давнишняя обида на священника не давала покоя. Необходимо во что бы то ни стало выпросить прощение. «А что, если батюшка снова будет с похмелья? – подумал он. – А не сорвусь ли я и не впаду ли в осуждение? Только не это, только не это».
Храм-часовня, в который вошел Родион, несмотря на буднюю вечернюю службу, был заполнен до предела. На строительстве нового храма только выкладывали стены из кирпича, и работы здесь было года на два. Окружающий «спальный район» населялся выходцами из центра и жителями местных деревень. Не смотря на рабочее время, над платками женщин и старушек возвышались стриженые и длинноволосые головы мужчин. Не сразу в толпе Родион обнаружил отца Никодима. Да и узнал его с трудом: согнулся, поседел, сильно исхудал.
По окончании богослужения у аналоя оставались люди. Каждый принес батюшке свою боль, какие-то нерешенные проблемы. Отец Никодим терпеливо, не перебивая, выслушивал исповедников, потом полушепотом кратко что-то говорил и возлагал на покаянную голову потертую епитрахиль. На разрешительной молитве он разгибал сутулую спину и устремлял взгляд вверх. Слова молитвы произносились, будто со стоном, с глубоким воздыханием – и это сразу превращало внешне обычное действо в непостижимое рассудком великое таинство. Оттуда, из высочайших небесных высот, сходил порыв незримого огня, сжигающего сорняки человеческой души. Кающийся не видел этого, но выходил из-под епитрахили другим: успокоенным, тихим, с отсветом блаженства на лице.
Родион пропустил вперед двух опоздавших и в опустевшем храме встал у аналоя один на один со священником.
– Ну наконец… Сердцем-то чую, что ты, Родечка, здесь, а глазами слепыми только сейчас увидел. Исповедоваться будешь?
– Благословите…
Спустя полчаса в гостиной батюшкиной квартиры Родион разглядывал книги и фотографии на стене. Такое обилие книг поражало и удивляло. Чего тут только не было. Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, большая советская, собрания сочинений русских, советских и зарубежных классиков, богословие и патристика, философия и научный коммунизм, политэкономия и… множество книг о животных и растениях.
Среди фотографий привлекли внимание две: старинная с бородатым священником и современная, цветная, на которой не без труда узнавался отец Никодим, улыбчивый и молодой. Именно у последней фотографии стоял Родион, когда в комнату вошел с чайником в руке хозяин, одетый по-домашнему в потертый, кое-где залатанный суконный подрясник.
– Садись, Родечка, за стол. Я сейчас тебе много чего расскажу. Ты не торопишься?
– Нет, батюшка, я приехал поговорить.
– Вот и хорошо. А то, знаешь, пока служу, да с людьми – все хорошо. А дома, когда наедине вот с этим… – он по-стариковски всхлипнул, но тряхнул головой и глубоко вздохнул, переводя дыхание. – Да. Когда прихожу сюда, то каждый день переживаю это…
– Что?
– Да ведь погибли они, Роденька. У меня на глазах… Еще тепло на моей руке не растаяло от касания матушкиной ручки, – а уж ее-то и нет… Машина-то взорвалась и сгорела, как порох. И матушка и все трое деток!..
– Простите, меня, батюшка, я не знал, – опустил Родион голову.
– А кто знал-то, кто знал, родимый Родечка? – простонал отец Никодим. – Что мы знаем… Ну, не вынес я этого горя-горького и, как последний забулдыжка, запил. Видел я, как люди Божии от меня носики воротят. Видел, как и ты отошел от меня. А что я мог?.. Когда такая черная стена на меня обрушилась. Матушка-то у меня, это ж ангел земной, а не человек была. А детки? Они от нее такую чистоту усвоили, что я глядел на них своими гляделками окаянными и стыдно мне было рядом с такими ангелочками. Я жил с ними и не верил своему счастью. Не чаял, что в жизни так бывает. Все думал, за что мне это? Ну, а как это случилось… Веры-то у меня, на поверку, с мизинец оказалось. Не то, что у деда моего, священника.
Он показал на старинную фотографию. Всхлипнул, вздохнул, вытер слезы платком и показал на ряды книг.
– Видишь? Вот чем я увлекался. Думал в этой чащобе Солнце отыскать. А что Солнце в сердце, а не в уме, – только сейчас, на старости лет, постигать начинаю. Вот зачем Господь отнял у меня самое ценное. Их-то, моих родимых, во Царствие Свое, а меня, окаянного, – как Иова, на гноище – до конца дней земных. Слава, Тебе, Господи! Буде имя Твое благословенно отныне и вовеки.
Какое-то время они молча пили чай. Каждый думал о своем. Наконец, отец Никодим распрямился и улыбнулся:
– Ты помнишь, Родя, Маргариту с красными волосами? Ну, ты еще серчал на нее…
– Да, конечно.
– Так вот стала она к нам ходить. Ты как-то попросил за нее помолиться. Ну, я имя ее в синодик свой вписал…
– И что?.. – Родион звякнул чашкой о блюдце и замер.
– Слушай, слушай, – снова улыбнулся батюшка. – Я, как увидел ее в первый-то раз, сразу вспомнил тебя и красные волосы твоей протеже. Сразу к бабкам нашим побежал. «Если, говорю, вы хоть слово этой рабе Божией скажите, я вас накажу. Ни полслова! Эту овечку к нам Сам Господь привел». Бабки поначалу-то на меня осерчали, как положено. А потом вместе со мной стали удивляться. Представляешь, Родя?..
Другие электронные книги автора Александр Петров
Миссионер




 4.5
4.5
Созерцатель




 4.6
4.6
Другие аудиокниги автора Александр Петров
Сказки для Сонечки




 4.67
4.67
Миссионер




 4.67
4.67