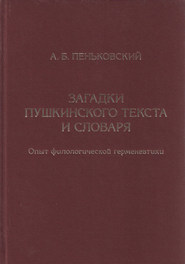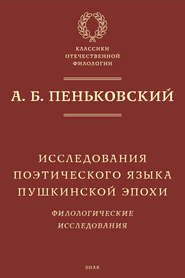По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки по русской семантике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– N
, где N
– имя единицы меры, а N
– имя вещественного целого: ни одна тонна угля, ни одного пуда муки, ни в одном грамме вещества и т. п. Кроме специализированных имен меры (веса, длины, объема и др.), наполнителями центрального компонента рассматриваемой модели могут быть также имена с вторичным «мерным» значением, которое развивается на базе основного предметного значения, обусловливающего их вхождение в НОТ-1. Ср.: ни одного стакана молока (об отсутствии молока – НОТ-2), но ни одного стакана (об отсутствии стаканов – НОТ-1).
НОТ-3: отрицательная тотальность мыслится как множество, в составе которого выделяется «размерная» группа минимальных его единиц или мельчайших частиц, подвергающихся отрицательному перебору, чем и имплицируется отрицательный перебор целого. Так, если мы говорим: На ночном небе не было видно ни одной звездочки, то отрицание здесь охватывает не только подмножество звездочек, но и целиком все множество звезд. Точно так же в примерах: «…на одной стороне жили неряхи: где ели, там и набросали горы костей, на другой – аккуратисты, там чистота, не оставлено ни единой косточки» (Огонек, 1979, 13); «Вот у К. ни один холстик не пропадет: все продается…» (В. Гаршин. Художники, Ш); «…еще ни одной копешки не вывезли» (В. Личутин. Последний колдун) имеются в виду не только косточки, холстики и копешки, но все кости, все холсты, все копны, и иное – ограничительное – понимание невозможно.
Во всех подобных случаях язык следует логике ежедневного бытового здравого смысла, отражающего многовековой опыт тех, кто, осуществляя исчерпывающий «нисходящий» перебор, выметал соринки и песчинки после того, как убирался мусор и песок, кто подпирал последние соломинки после того, как вывозили солому, и сжигал щепочки после того, как укладывались дрова. Специализированным средством передачи такого «нисходящего» перебора являются конструкции, построенные по формуле до… N
с соответствующими определителями: выбрить до последнего волоска, вывезти хлеб до последнего зернышка, выжать до последней капли, разобрать печку до последнего кирпичика, истратить деньги до последней копеечки, выгрести золу до мельчайшей пылинки и т. п.
В отрицательных конструкциях типа НОТ-3 эти же отношения отражаются в перевернутом виде – как «восходящий» перебор «от мала до велика» (от звездочек к звездам, от соломинок к соломе). Конструктивная сила НОТ-3 настолько велика, что она преобразует реальную действительность, создавая несуществующие «минимальные размерные единицы» (ни одного словечка, ни одного разочка, ни одного денечка и т. п.), и отводит действующие языковые нормы, порождая не используемые вне НОТ-3 диминутивы и сингулятивы для обозначения таких «минимальных единиц». Ср.: «В заметно посвежевшем воздухе было тихо. Ни единой ветриночки…» (Ф. Абрамов. Дом); «…ни мыслинки не было в голове» (Л. Леонов. Русский лес); «Доведись мне, я бы тоже резал и косил их из автомата, и ни одной жалостинки во мне бы не шевельнулось» (А. Черноусов. Чалдоны); «Александров вытирал пот с Бурджалова и Грибунина. – А посмотрите на Мейерхольда – ни потинки!» (В. Качалов. Стремительный бег); «-…у нас ни одной водиночки в доме» (И. Велембовская. Сладкая женщина); «Распутин настаивает на том, чтобы мы ни упустили ни одной добринки, ничего, что укрепляет положение человека на земле» (Вопросы литературы, 1977. № 2. C. 71) и мн. др. под.
В зависимости от специфики структуры НОТ и ее минимальных единиц выделяется несколько подтипов НОТ-3, различающихся по структуре и особенностям лексико-словообразовательного наполнения центрального грамматического компонента:
НОТ-3-а: соотносится по структуре с НОТ-1; наполнителями центрального компонента являются конкретно-предметные диминутивы различных типов: ни одного огня – ни одного огонька (огонечка); ни одного костра – ни одного костерка (костери-ка, костерочка); ни одного волоса – ни одного волоска (волосика, волосочка). Ср. также: ни одной волосинки. Ср. еще: ни одной слединки («– Якорное тулово не зацепи. Чтоб ни слединки не осталось!» – В. Поволяев. Боцман Бересан).
НОТ-3-б: соотносится по значению и совпадает по структуре с НОТ-2. Наполнителями центрального компонента могут быть:
– Диминутивы существительных со значением единиц меры: ни одного пуда муки – ни одного пудика муки.
– Диминутивы существительных с вторичным «мерным» значением: ни одной рюмки водки – ни одной рюмочки (рюмашки, рюмашечки) водки.
– Имена со специализированным значением мельчайших частиц целого: капля, кроха, крупинка; крупица, искра и др., а также их диминутивы: ни одной капли (капельки) молока, ни одной крошки (крошечки) хлеба, ни одной крупицы, крупинки (крупиночки) соли и т. п. То же при метафорическом переносе на явления внутреннего мира человека: ни (одной) капли (капельки) любви (жалости, сострадания), ни (одной) крошки (крошечки) сочувствия, ни (одной) искры (искорки) чувства и т. п. Особо следует выделить группу имен, обозначающих единичные проявления эмоциональных и физиологических состояний человека: признак, проблеск, тень, след и др. Ср.: ни одного признака жизни, проблеска сознания, ни следа вчерашней печали, ни тени тревоги и т. п. Ср. еще: ни (одного) намека на раскаяние.
НОТ-3-в: совпадает по значению с НОТ-3-б, а по структуре – с НОТ-3-а; наполнителями центрального компонента являются сингулятивы, выражающие значение мельчайших единиц и частиц целого синтетически, нерасчлененно: ни (одной) капли дождя – ни (одной) дождинки; ни (одной) крошки табака – ни (одной) табачинки; ни (одной) капли жалости – ни (одной) жалостинки. То же вне таких соответствий: ни одной соломинки, ни одной травинки и т. п.
НОТ-3-г: в отличие от НОТ-3-б импликатором отрицания целого является здесь не отрицательный перебор подмножества его минимальных единиц или мельчайших частей, а отрицательный перебор минимальных степеней проявления целого. Формула НОТ-3-г – ни малейший N
. Наполнителями центрального компонента являются имена, называющие различные состояния внутренней жизни человека (ни малейшего внимания, воодушевления, желания, страха, удивления, интереса, негодования, огорчения, сомнения, сочувствия и т. п.), динамические процессы внешнего мира (ни малейшего движения, изменения, потепления), а также явления и предметы, обладающие способностью к градуальному изменению по тем или иным параметрам (ни малейшего звука, стона, шума, ни малейшей трещинки, щелки и т. п.). Употребление имен других семантических классов в конструкциях НОТ-3-г не соответствует сложившейся норме: «Между тем трое из вас подговаривали к пожару, не имея на то ни малейших инструкций» (Ф. М. Достоевский. Бесы, 3, 4, 1). Устаревшим является также использование здесь определителей малый, маленький: «Нет ни малой надежды скоро видеть тебя в России» (И. Плещеев – А. М. Кутузову, 22 июля 1790 г.); «…роман, не требующий ни малого напряжения внимания» (М. А. Фонвизин – Н. Н. Шереметевой 13 августа 1834); «…спешить нечего, ибо нет ни малой опасности от шведов» (А. С. Пушкин. История Петра); «…и изволила про свое величество спросить: “Стара я стала, Филатовна?” – И я сказала: “никак, матушка, ни маленькой старинки в вашем величестве нет!”» (Рассказ Н. Ф. Шестаковой 16 июня 1738 г.). Ср. также: «Еще повторю от глубины души: не радуйте изветников ни самою безвиннейшею нескромностью» (Н. М. Карамзин – П. А. Вяземскому, 11 янв. 1826 г.).
Значение НОТ-3-г передается также соотносительными конструкциями с предлогом без: ни малейшего сожаления – без малейшего сожаления; ни малейшего шума – без малейшего шума и т. п., в связи с чем следует отметить общее для них явление нейтрализации по числу: ни малейшего усилия / ни малейших усилий – без малейшего усилия / без малейших усилий и т. п.
НОТ-4: отрицательная тотальность мыслится как множество или целостность, весь состав которых – во всем его качественно-признаковом, качественно-видовом, качественно-сортовом, качественно-содержательном или градуальном многообразии – подвергается полному отрицательному перебору и зачеркиванию. Специальными показателями такого перебора являются отрицательные местоимения никакой и ничей, в связи с чем нужно признать, что НОТ-4 соединяет в себе признаки НОТ и МОТ: никакого хлеба (черного, белого, серого…; ржаного, пшеничного…; свежего, черствого…); никакой врач (не вылечит), никакому ученому (не решить этой задачи), никакой пилой (не распилишь), ни в каком городе (нет таких зданий); ни за чьей спиной (не спрячешься); никакого внимания (не обращает), ни на какой призыв (не откликается), ни к какому совету (не прислушивается), ни о каком воздействии (не может быть и речи) и т. п. Ср. также фразеологически ограниченные конструкции НОТ-4 с определителем никой (никоим образом, ни в коей мере, ни в коем случае) и устаревшие – с определителем никоторый (при именах вещественного и конкретно-предметного значения): «Индеяне же неядят никоторого мяса, ни яловичины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины» (Хожение Афанасия Никитина…); «Но никоторой вещи мне так не жаль, как настольных часов…» (А. Болотов. Записки, 1, 2); «…ни у которого человека теперь денег для чужого кошеля не найдешь» (П. И. Мельников-Печерский. В лесах, 1, 1, 3) и т. п. Современный литературный язык не допускает эллипсиса местоименного компонента в оборотах этого типа, хотя еще в пушкинскую эпоху их эллиптированные варианты не выходили за границы нормы: «Мальцан бился за сто луидоров, что один месяц и один день будет ходить всюду в розовом платье, в розовых сапогах и в розовой шляпе <…>. Будет на всех вечеринках и у себя всех принимать в сем наряде, и даже шлафрок будет розовый. Все наряды его на счет другой партии, если он условленное время выполнит, не надевая ни платка другого цвета….» (А. И. Тургенев – П. А. Вяземскому, 10 марта 1827) – никакого (не *ни одного) платка другого цвета; «Нет милых сплетен – всё сурово, / Закон сидит на лбу людей, / Всё удивительно и ново – / А нет ни пошлых новостей…» (М. Ю. Лермонтов. С. А. Бахметьевой, 1832) – никаких пошлых новостей.
Многое здесь требует специального углубленного изучения с учетом различий тех значений, которые определяются принадлежностью центрального именного компонента НОТ-4 к тем или иным семантическим типам имен (вещественные, лично-предметные, абстрактные и др.). Ср.: никакого хлеба – *никаких хлебов – *ни одного хлеба; никакого врача – никаких врачей – ни одного врача; никакой надежды – никаких надежд – *ни одной надежды и т. п. Ср., однако, в языке пушкинской эпохи: «Я поглупел и очень поглупел. Отчего? Бог знает. Не могу себе дать отчету ни в одной мысли, живу беспутно, убиваю время и для будущего ни одной сладостной надежды не имею…» (К. Н. Батюшков – П. А. Вяземскому, 10 июня 1813).
Особо должно быть отмечено и выделено широко распространенное в определенных контекстуальных условиях разговорной речи явление семантического сдвига в конструкциях НОТ-4, которые преобразуют энергию тотального отрицания целостного качественно-характеризуемого множества в экспрессивное сверхусиленное отрицание определенного конкретного единичного объекта (см. об этом также в работе [Пеньковский 1989] и в наст. изд., с. 47). Ср. в литературных отражениях: «– Там оставался у нас… сыр… – Где это он оставался? – сказал Захар, – не оставалось ничего… – Как не оставалось? – перебил Илья Ильич. – Я очень хорошо помню: вот какой кусок был… – Нету! Никакого куска не было! – упорно твердил Захар» (И. А. Гончаров. Обломов, 1, VIII); «– А платок где? – спросил Данилов. – Какой платок? Какой еще платок? – удивился инвалид… Там платок был, – сказал Данилов. – Никакого платка! Никакого платка! – сердито забормотал инвалид» (В. Орлов. Альтист Данилов).
Характерная для всех таких случаев сверхвысокая сила отрицания обусловлена экспрессивным нарушением логико-семантической нормы, в соответствии с которой множества, обозначаемые конструкциями НОТ различных типов, не могут быть ни пустыми (ср. развитие такого значения у слов ничто, никто, никуда и др. [Грамматика-80: II, 413]), ни равными единице.
Именно поэтому говорится Ты и головы не повернул; Я и пальцем его не тронул, а не *Ты ни головы не повернул; *Я ни пальцем его не тронул. В первом случае отрицание направлено на единичный объект, не входящий в состав соответствующего множества, что делает невозможным использование здесь тотально-отрицательного ни и объясняет отсутствие в конструктивной схеме этого высказывания позиции нумеративно-числового показателя один. Ср. еще: Она ему и руки не подала (поскольку есть лишь одна рука, которую можно подать). Во втором случае отрицание направлено на единичный же объект, но объект, принадлежащий множеству и исключаемый из него. Поэтому здесь иная конструктивная схема (ср.: Я и одним пальцем его не тронул), но тот же запрет на тотально-отрицательное ни. Ср.: «Обижалась Параскева, говорила сыну, что вон друзья-товарищи по-всякому поснимались, а он матери и одного снимка не мог прислать» (В. Личутин. Обработно – время свадеб); «Моделировать ситуацию с “Байкалом” даже Чернышев не решился: он не усмотрел и одного шанса из ста» (В. Санин. Одержимый). Во всех таких случаях замена выделительно-подчеркивающего и тотально-отрицающим ни изменяет смысл высказывания, превращая исключающее (эксклюзивно-единичное) отрицание в тотальное (типа НОТ-1) и преобразуя один
с определенно-количественным значением в один
с значением тотальной единичности (т. е. в знак тотального по-единичного перебора). Ср.: Он раскрыл книжку, но не прочитал и одной страницы – …не прочитал и двух (и трех, и четырех…) страниц, но: не прочитал ни одной страницы – …не прочитал *ни двух страниц.[35 - Ср. устар.: «Бедная птичка! Она, верно, еще долго после вашего отъезда будет прилетать к вашему окну. С каким удовольствием читал я об ней. Если б это попалось мне где-нибудь в книге, то бы меня ни в половину так не тронуло, для того, что я бы почел это за сказку» (И. А. Крылов – М. П. Сумароковой, 1801 г.); «…пушечная пальба, хоры музыкантов и песельников не умолкали ни на пять минут…» (А. С. Грибоедов. Письмо к издателю Вестника Европы, 1814); «…я не только не воздавал за зло добром, но и малейшей обиды не мог снести без отмщения и не уступал другому ни самой маловажной вещи» (С. Д. Комовский. Журнал, 16 марта 1815); «Кареты не ждал ни двух минут, потому что уехал рано…» (Н. М. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 22 февраля 1816); «Войск деля Петровых славу, / С ним ушел он под Полтаву; / И не пишет ни двух слов: / Все ли жив он и здоров…» (П. А. Катенин. Ольга, 1816);«…несколько строк X тома уже написано. Кажется, что это царствование не займет ни половины его» (Н. М. Карамзин – А. Ф. Малиновскому, 3 марта 1821); «…всякий знает, что, хоть он расподличайся, никто ему спасибо не скажет и не даст ни пяти рублей» (А. С. Пушкин – К. Ф. Рылееву, июль – август 1825) и т. п.]
Эксклюзивно-единичное отрицание – в зависимости от специфики отрицаемого, особенностей контекста и некоторых других факторов – формирует два взаимосвязанных значения:
а) значение полного отрицания единицы, исключаемой из множества: Он и одного дерева не посадил; Он и одного снимка не прислал и т. п.
б) значение неполного отрицания: Она не прожила с ним и года – ‘прожила меньше года, неполный год, т. е. несколько месяцев’; Я открыл книжку, но не прочитал и одной страницы – ‘прочитал меньше страницы, т. е. несколько строчек’; Он и (одного) часу не высидел – ‘высидел меньше часа, т. е. несколько ми-нут’ и т. п.
Оба эти значения обнаруживают связь с полным тотальным отрицанием, но связаны они с ним по-разному. Первое – импликативно-логически (ср. описанные выше отношения между НОТ-3-а и НОТ-1); второе – связью семантического перехода. Ср.: …и одной минуты не говорил – ‘говорил меньше минуты, т. е. не-сколько секунд’ > ‘не говорил нисколько’; …и (одного) рубля не заработал – ‘заработал меньше рубля, т. е. несколько копеек’ > ‘не заработал нисколько’ и т. п.
Взаимосвязь указанных типов отрицания и проявляющаяся в определенных условиях близость их семантических вариантов обусловливает возможность и реальные случаи их смешения. Ср., на-пример, нарушающие логику отрицания, но ставшие фактической нормой конструкции НОТ-3-б типа ни тени сомнения вместо старых – логически правильных – оборотов с и: «А потом ни тени смущения и раскаяния» (Н. Давыдова. Сокровища на земле); «В гордости Асеева не было ни тени самодовольства» (Новый мир, 1982, 3, 265); «…ни разу не возникло ни тени ревности» (Ф. Искандер. Морской скорпион) и мн. др. под. Но: «Герцог Орлеанский не имел и тени лицемерия» (А. С. Пушкин. Арап Петра Великого); «…не оказалось и тени отравления» (А. И. Одоевский. Русские ночи); «Теперь нет на нем и тени добродетели» (Н. В. Гоголь. Мертвые души); «Во мне не осталось и тени кокетства» (Л. Н. Толстой. Семейное счастье); «…в нем <В. В. Самойлове> не было и тени трагического или драматического таланта» (В. А. Панаев. Воспоминания); «После Рубини я переслушал всех знаменитейших теноров, но никто не мог дать и тени того впечатления, которое производил Рубини…» (Там же). Ср.: «…даже и тени улыбки не показалось в ее лице» (Ф. М. Достоевский. Иди-от) и др. под.
Множества, которые обозначаются конструкциями НОТ рассмотренных выше типов, не могут быть также равными двум и представлять собою парные единства. Поэтому разрешены высказывания типа «На голове его спереди не оставалось ни одного волосика» (И. С. Тургенев. Чертопханов и Недопюскин); «У него ни одного зуба не оставалось» (И. С. Тургенев. Два приятеля); «Девушка бросилась на колени и… не мигая ни одною векою, так и впилась в лицо своему брату» (И. С. Тургенев. Вешние воды) и др. под., но запрещены такие, как *У него нет ни одной руки; *Он не владеет ни одной рукой; *У него не было ни одной ноги; *Я не могу спать ни на одном боку; *Он не видит ни одним глазом, не слышит ни одним ухом и т. п. Ср., однако, случаи, где имеется в виду не пара, а множество: «В мире не было ни одной руки, которая бы протянулась ему навстречу» (Н. А. Некрасов. Повесть о бедном Климе); «…а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила» (И. С. Тургенев. Ася).
Есть все основания видеть в описанном разграничении одно из тех правил скрытой грамматики русского языка, которые генетически связаны с древним противопоставлением парности и множества как принципиально различных категорий мира и числового мышления.
В этой связи могут быть правильно поняты и различные фразеологические обороты с эксклюзивным отрицанием типа и в ус не дует, и бровью не повел, и ухом не ведет, и глазом не моргнул и т. п., и фразеологически закрепленные единичные отступления от этой нормы типа ни ногой, ни в одном глазу (с заменой и на ни в условиях обычного для них эллиптированного употребления).
По эксклюзивному же типу осуществляется отрицание целого, если оно мыслится состоящим из двух половин: и половины книги не прочел, и половины дела не сделал и т. п. То же в случаях со слитными трансформами таких сочетаний (и полкниги не прочел, и полдела не сделал), от которых нужно отличать конструктивно обусловленные экспрессивно-усилительные образования с пол– в построенных по схеме НОТ высказываниях типа не сказал ни полслова (ни полсловечка). Ср.: «…он не сказал ни полслова» (Н. В. Станкевич-М. А. Бакунину, 3 ноября 1836); «Давным-давно вы ко мне ни полслова» (А. В. Кольцов – А. А. Краевскому 27 ноября 1836); «…он все будет шиллерничать, а об деле ни полслова» (А. И. Герцен – Н. X. Кетчеру 1 марта 1841); «– А главное, главное – ни полсловечка Юлии Михайловне» (Ф. М. Достоевский. Бесы, 2, 6, III) и т. п. Ср. еще: «Нашу братью стращают, а дела ни на полплеши нет» (П. И. Демидов – М. И. Хозикову, 26 декабря 1779); «По Летнему ль гуляет саду – / Не свищет песенка, не бойсь, / Хоть будь красотка, – ни полвзгляду / Не кинет прямо и ни вкось…» (А. И. Полежаев. Сашка, II, 13, 1825–1837); «…я терпел и не дал в ответ ни ползвука….» (И. Клингер. Два с половиною года в плену у чеченцев, 1847);«…и читал-то он монотонно и несносно, по-пасторски, да и сам-то сюжет так мне ни на полдвора не светил…» (В. В. Стасов – Д. В. Стасову, 30 мая 1896) и др. под.
Вне сферы охарактеризованных выше фразеологизованных средств выражения отрицания парных единств (ср. еще: он слеп на оба глаза, он глух на оба уха) это значение передается специализированными отрицательными конструкциями двухчленной структуры ни левый ни правый, ни тот ни другой (устар. ни один ни другой): не видит ни левым ни правым глазом; не слышит ни левым ни правым ухом; ни на левом ни на правом (ни на том ни на другом) берегу. Ср.: «…чувствовал себя не приставшим ни к тому ни к другому берегу» (В. Брюсов. Огненный ангел, XII, 2), но ср.: «Вечно от одного берега к другому, и ни к которому не хочется пристать» (И. С. Тургенев. Несчастная).
То же в случаях свободной парности: «…войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того ни другого города, Самозванец двинулся вперед» (Н. М. Карамзин. История государства Российского, XII, 2); «…не было пущено ни одного выстрела ни с той ни с другой стороны» (Л. Н. Толстой. Война и мир, 3, 2, XVIII), но ср.: «Они не остановились ни на одной из этих позиций» (там же, 3, 2, XIX), так как выше было: «…в отступлении своем прошли много позиций». Ср. также: «Ни тому ни другому не спалось» (И. С. Тургенев. Отцы и дети); «Встретились мне два старика… И ни тот ни другой травки и не видели» (А. Лебедев. Разрыв-трава) и мн. др. под.
На этой основе строится особый структурный тип НОТ (НОТ-5), представляющих собой закрытые двучлены-биномы. Объектом отрицания в таких двучленах являются целостные предметные единства (А), состоящие из двух так или иначе (естественно-природно, конструктивно, логически или ситуативно) взаимосвязанных элементов или частей, либо целостные понятийные сферы (Б), задаваемые их крайними (граничными) областями предметного, признакового, акционального, обстоятельственного и др. типов: (А) нет ни отца ни матери (ср. отец-мать ‘родители’), ни жены ни детей (ср.: «…и если бы не жена-дети, как говорится, ни за что бы я это не выдала» – В. Панова – А. Тарасенкову, 2 октября 1949); не чувствовать ни рук ни ног (ср.: руки-ноги); «На двери не было ни ручки, ни замка» (В. Егоров. На родине); «Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых» (Ю. Бондарев. Последние залпы); «…теперь ни в полку, ни в дивизии не найти летчика, который согласился бы лететь с ним в паре» (В. Дроздов. На Миусе), и т. п. (Б) «…не станет помехой ни в деле ее, ни в личной жизни» (М. Борисова. Ритуальные жесты); «…не принимали участия ни в деле ни в забавах» (Л. Андреев. Призраки); «…не высказывая ни порицания, ни одобрения» (Ф. М. Достоевский. Бесы, 2, 5, I); «…не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев» (А. С. Пушкин. Арап Петра Великого); не может ни пить ни есть; не хочу ни упрекать ни благодарить; ни впереди ни сзади; ни раньше ни потом, ни до ни после; ни мимо ни навстречу и др. под.
Образуя целостные единства, элементы таких двучленов, равноправные по отношению друг к другу и равноправно подчиненные целому, вступают в логико-семантические противопоставления, представляя различные типы антонимии и контраста, и характеризуются обязательным единством и общностью всех основных семиологических, категориальных, функционально-синтаксических и структурных признаков.
Едины они и в своей несамостоятельности перед целым: устранение одного из элементов двучлена либо вообще разрушает НОТ, порождая некорректные высказывания (ср.: Здесь невозможно ни ездить ни ходить. – *Здесь невозможно ни ездить. *Здесь невозможно ни ходить; «В доме не было ни видно огней, ни слышно голосов» – В. Брюсов. Алтарь победы; – *В доме не было ни видно огней. *В доме не было ни слышно голосов; У нас нет ни хлеба ни молока. – *У нас нет ни хлеба. *У нас нет ни молока; ср.: У нас нет никакого хлеба. У нас нет ни кусочка хлеба. У нас нет ни капли молока), либо изменяет тип НОТ, ее структуру, значение, семиологические характеристики, отношения с контекстом.
Так, в предложении (1) На койке ни матраса ни одеяла двучлен, представляющий НОТ-5, обозначает предметное единство, образуемое верхней и нижней частями постоянного (несменяемого, в отличие от белья) комплекта постели, и допускает две ситуативных интерпретации: (1-а). Вернувшись в комнату, он увидел, что его матрас и одеяло исчезли (конкретная референция с пресуппозицией существования); (1–6) Получив койку в номере, он увидел, что на ней нет матраса и одеяла (неконкретная референция с пресуппозицией нормы: на койке должны быть матрас и одеяло).
Преобразование двучлена в одночлены создает структуры типа НОТ-1 – ни (одного) матраса или ни (одного) одеяла, которые по своему значению не соответствуют ни ситуации (1-а) (на койке – даже если было очень холодно – не могло быть больше двух матрасов и одеял) ни ситуации (1-б) (на койке не должно быть больше одного матраса и одеяла). Ср. предложение (2) Привезли детей, а у нас/ в детском доме / еще ни матраса ни одеяла, которое допускает две, но не ситуативных, а структурно-смысловых интерпретации: (2-а) …ни матраса ни одеяла… (где матрас = ‘Матрас’ и одеяло = ‘Одеяло’ – имена не множеств, а абстрактных классов) и (2–6) …ни матраса, ни одеяла…, где ни матраса= ‘ни одного матраса’ и ни одеяла = ‘ни одного одеяла’, т. е. две однородных конструкции НОТ-1, обозначающие два предметных множества, две отрицательных тотальности.
Из сказанного следует, что конструкции НОТ-5 являются связанными двучленами. Это совершенно очевидно в отношении всех двучленов-биномов, образуемых несубстантивными единицами различных категориальных классов, но это справедливо также и в отношении субстантивных биномов. Неслучайно, что и тем и другим свойственна тенденция к образованию устойчивых сочетаний с дальнейшей их фразеологизацией и возможностью использования в качестве предикативных членов неотрицательных предложений: ни то ни се, ни два ни полтора, ни рыба ни мясо, ни богу свечка ни черту кочерга и т. п. Ср. также адъективные и адвербиальные биномы антонимического состава, обозначающие нулевую точку отсчета на соответствующей параметрической градуальной шкале: ни молодой ни старый, ни добрый ни злой, ни весело ни скучно и т. п. и – с фразеологическими сдвигами значения – ни жив ни мертв, ни тепло ни холодно и т. п.
Известно, что в соответствии с действующими правилами пунктуации элементы таких сочетаний, которые рассматриваются как однородные члены с противоположными значениями, образующие одно цельное выражение и соединенные повторяющимся союзом ни, не должны разделяться запятой [Правила 1956: 83], в отличие от таких же сочетаний, не являющихся фразеологически связанными (в случаях типа…у ней не было ни подруги, ни наставницы) [Шапиро 1955: 241; Шапиро 1966: 157; Розенталь 1984: 34]. Известно также, что правила эти в массовой практике письма и печати не соблюдаются сколько-нибудь последовательно и нарушаются как в ту, так и в другую сторону.
Это объясняется прежде всего тем, что правило, исключающее постановку запятой в сочетаниях, «образующих одно цельное выражение», не подкреплено исчерпывающим их списком, а без такого списка оно неизбежно оказывается формальным, чем подрывается также соблюдение правила, требующего постановки запятой в сочетаниях, не являющихся фразеологически связанными. Другая – более глубокая – причина заключается в том, что оба правила недостаточно обоснованы теоретически и вступают в противоречие с другими установлениями пунктуационного кодекса.
Спорна традиционная квалификация двойного ни…ни как повторяющегося союза, поскольку одиночное ни в отрицательных предложениях – заведомо не союз, а усилительно-отрицательная частица, что и отличает принципиально ни-ни как от парного (не имеющего одиночного коррелята) союза то…то, так и от повторяющихся союзов или-или, либо-либо, да…да. В связи с этим возникает вопрос о соотношении двойных ни-ни и и-и[36 - Учитывая установившийся с конца XIX в. окончательный запрет на союзное употребление одиночного ни между однородными членами отрицательных предложений (типа пушкинского «Она ласкаться неумела к отцу ни к матери своей»), нужно признать, что былой параллелизм между ни и и в русском языке утрачен и потому утрачен также параллелизм их двойных коррелятов: если и…и – это союз-частица, то ни…ни следует считать усилительной отрицательной частицей с дополнительной союзной функцией. Это – частица-союз.]и обращает на себя внимание не согласующаяся с обсуждаемыми правилами рекомендация кодекса не ставить запятую «между двумя однородными членами предложения, соединенными повторяющимся союзом и и образующими тесное смысловое единство» в случаях типа Было и лето и осень дождливы [Правила 1956: 83]. Несомненно, что «тесное смысловое единство» отнюдь не то же самое, что «одно цельное выражение», но несомненно и то, что двучлены с ни…ни, не являющиеся «цельными выражениями», как раз и представляют собой «тесные смысловые единства» (ср. примеры кодекса: «и лето и осень» – «ни подруги, ни наставницы»), элементы которых поэтому на равных основаниях должны или не должны разделяться запятой. При этом следует иметь в виду, что «тесное смысловое единство», или «структурно-семантическая цельность», является общей особенностью блоков однородных членов [Бабайцева 1979: 154–155] и, следовательно, особенностью также и всех двучленов с ни…ни, которые, как было показано выше, обозначают целостные предметно-понятийные единства и элементы которых, будучи несамодостаточными, связаны еще и конструктивно.
Все сказанное приводит к выводу о целесообразности возвращения к старой – гротовской – пунктуационной норме, в соответствии с которой элементы двучленов с двойными ни…ни и и…и – независимо от степени их устойчивости и фразеологичности – за-пятой не разделялись [Грот 1903: 106]. Ср., например, иллюстрации, взятые подряд из 1-го тома марксовского издания полного собрания сочинений Л. Андреева (СПб., 1913);…не хотел ни убивать его ни трогать (с. 57), …ни газеты ни журналы ни слова не говорили о нем (c. 66),…независимый ни от слабого мозга ни от вялого сердца (с. 72),…не может быть ни сильным ни свободным (там же),…нет ни голоса ни силы на сопротивление (с. 73),…не было видно ни духовенства ни провожатых (с. 82),…не слыхал ни своих вопросов ни ее ответов (с. 83),…не боялся ни его ни себя (с. 84) и т. п.
В пользу предлагаемого пунктуационного решения можно при-нести два достаточно веских дополнительных аргумента:
1. Оно позволяет последовательно противопоставить связанные двучлены рассматриваемого типа двум другим типам двучленов:
а) Свободным двучленам, являющимся усилительными повторами рассмотренных выше одночленных НОТ. Ср.: «Он был историограф, советник царя. И, однако же, царь ни разу, ни разу с ним не побеседовал…» (Ю. Тынянов. Пушкин, 3, 1, 7); «Целый вечер вместе, и за целый вечер ни слова, ни слова» (В. Мельгунов. Разлуки и встречи). То же – с аффиксальным осложнением: «…хоть трудности и велики, но гибель ничуть, ни чуточки еще не обязательна» (В. И. Ленин. Заметки публициста). То же – с парцелляцией: «Сидел целый день, а не высидел ни строчки. Ни строчки….» (С. Марков. Дом на берегу) и т. п.
б) Свободным двучленам, представляющим перечислительно-усилительные ряды одночленных НОТ однотипной (1) и – реже – разнотипной (2) структуры: