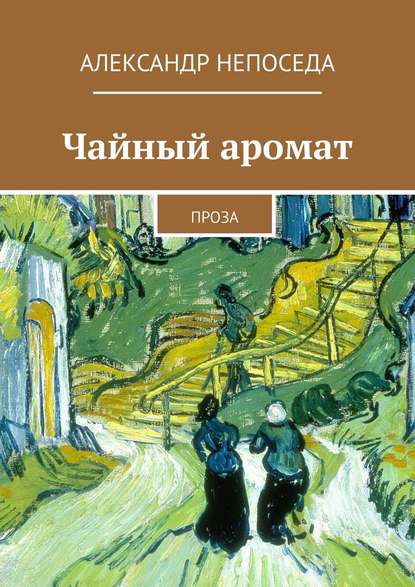По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чайный аромат. Проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Караван! По закону военного времени им запрещалось находиться вблизи войска, но почему дозорные и ночной караул не сделали им замечание? Значит – им разрешили! И я, забыв, что шел умываться и растираться ледяной водой направился прямо к шатру стоящему в центре. Забытые в походах ароматы достигли меня еще за несколько шагов до стоянки.
Шалфей и лаванда, корица и мускат – невероятная смесь запахов вскружила на мгновение голову, и вслед за этим я испытал сладкий удар в самое сердце. Откинув полу шатра – на миг показав мне голую руку – невесомо выпорхнула девушка. Локоны, перепутанные голубыми и желтыми лентами, ясные распахнутые глаза под долгими ресницами, нежный румянец и белозубая улыбка повергли меня в состояние меча застрявшего в ножнах.
Она стремительно взглянула на меня, расхохоталась – я увидел красивые влажные зубы – в уголках ее губ искрами вспыхивало солнце, и обдав меня завораживающим ароматом свежести молодого тела, растаяла в шумящей разноязыкой толпе. Я бросился за ней в грубое скопище купцов, торговцев, менял, в этот Разноплеменный и пропахший верблюжьей шерстью люд. В какое то мгновение мелькнули впереди – возле повозок груженых товарами – ее локоны и развевающиеся ленты, расталкивая локтями плотные ряды кричащих продавцов сладостей, я кинулся следом за этим огненным свечением, но она как сквозь землю провалилась.
Возвращаясь в лагерь, крепко сжимая рукоять меча, и проклиная себя за медлительность, поклялся разыскать ее, во что бы то ни стало. Потом еще был переход, взятие Персеполя, долгая и тоскливая зимовка в нем, возвращение назад через сумрачные горы, и только через три года, вернувшись наместником в Египет, я встретил ее в храме.
В звенящей тишине, в сухом и неподвижном воздухе окрашенном отблесками ароматных светильников, вытянувшаяся от своего величия, с подведенными бровями и ресницами, с тонкими длинными пальцами, сжимающими папирус, она прошла мимо, опахнув уже знакомым ароматом, присущим только ей одной, и я увидел слабую улыбку в уголках лиловых губ. Но, глаза! Глаза так полыхнули, что захолонуло сердце, и стянуло ознобом рубленые шрамы на моем лице…
Раздался короткий стук в дверь каюты, поднявшись с дивана и оглядев спящую – не потревожили ли сон – сбросил тяжелую бронзовую задвижку и увидел бородатое лицо штурмана, от него резко разило ромом, но глаза были ясны.
– Капитан! Слева две шхуны, приближаются к нам!
Ветром взлетев на мостик я увидел на светлеющей морской поверхности медленно – шли на веслах – приближающиеся шхуны со свернутыми парусами. На флагштоке обвис узкий, как острие скифского меча, вымпел, свернувшийся от безветрия. Но я острым взглядом различил на нем продольную черную полосу.
– Морские разбойники! Свистать всех наверх!
И враз загрохотали по палубе подковы матросов команды, торопливо занимающих места, согласно боевого распорядка. Запахло табаком, кожей и порохом. С мостика было видно, как двое матросов на носу каравеллы разворачивали пушку, звенели цепью удерживающей орудие во время шторма, заряжающий энергично орудовал у жерла, забивая тяжелые пыжи в заряд. Рядом ждали своей очереди круглые, тускло отсвечивающие ядра.
Скрипнула внизу дверь, и я сверху увидел роскошные волосы, плечи и выпуклость груди под тонкой розовой тканью – маленький башмачок на ноге несмело ступил на палубу.
– Доброе утро, капитан!
Она улыбнулась, ослепив меня белыми, как снег зубами, в уголках губ смеялись сто миниатюрных чертенят. Даже на таком расстоянии я почувствовал запах шалфея и лаванды исходящий от нее. Ладонью заслонившись от встающего солнца, сверкая ясными глазами, потянувшись и прогнувшись назад в поясе – она была потрясающе красива, до головокружения, до сердечного спазма.
– Вам лучше пройти вниз, сеньорита, у нас намечается утреннее рандеву.
Я протянул руку в сторону шхун, увидел дружно взлетающие весла, услышал гортанный крик предводителя шайки, отметив, что их слишком много, намного более ожидаемого. Она быстро взглянула по указанному направлению, привстала на носочки, весь ее облик дышал и переливался дивным светом морской зари.
– Нет, капитан!
Она повернулась ко мне вполоборота. В глазах ее билось синее пламя, щеки порозовели.
– Я лучше с Вами, в каюте мне будет страшно одиноко!
И она, невзирая на мой останавливающий жест рукою, стремительно взбежала на мостик, схватила меня за рукав, и я почувствовал, как она дрожит.
И во время нарастающей опасности – в этот удивительный миг, когда кровь становится горячей как угли в камине – в этом ее движении ко мне, в ее изумительном порыве быть рядом, при прикосновении этих хрупких и удивительно чистых пальцев – в неотразимых ее глазах отразилось солнце и блеск водной глади за моей спиной – с острой, глубокой болью в самом сердце – я вспомнил!
В тот холодный мучительный год мы громили племена варваров в землях Германии. Римская империя укрепляла свой фундамент в диких лесах и болотах северо-восточных рубежей. Полыхающие зарницы по ночам, внезапный снег, резкий пронизывающий ветер, покрытые инеем крупы лошадей, высокие островерхие ели и совершенно чужое небо. Провиант был на исходе, наши лошади, выбивая копытами снег, хватали хрустевшую промерзшую траву своими мягкими губами в зыбком плавающем предательском зимнем тумане. Запах костров мешался с запахом болот, сжимая наши сердца невыразимой печалью. Днем воздух наполнялся ревом мулов, конским ржанием, перестуком огромных колес повозок, звуками хлюпающей грязи под ногами бредущей бесконечной колонны пехоты и конницы.
Порою с тяжелым нарастающим топотом, обдавая острым запахом конского бега и комками свежей земли, проносился мимо вестовой, где-то там, в самой средине колонны двигалась огромная зимняя повозка Цезаря, богато украшенная мехами и бронзовыми щитами с личным гербом. Над нею, на холодном ветру, развевалось знамя Империи. Шли уже седьмые сутки поиска армии вестготов, но они – то появляясь мелкими группами одетые в шкуры, с дикими заросшими лицами – крича и швыряя в нас камни пущенные пращой – то так же внезапно исчезали в черном буреломе леса.
К концу дня, когда плечи невыносимо ноют от ремней, легких доспехов, вооружения, ноги гудят от длительного перехода по скользкой земле от начала колонны к главной – островерхой со знаменем – повозке промчался вестовой. В правой его руке бился на ветру красный вымпел – знак срочности и секретности донесения. И не успел я сообразить, что бы это значило, как заревели сигнальные трубы, объявляя о привале и отдыхе. Застучали топоры, на лесных полянах спешно поднимались шатры из грубого серого полотна, защищающего от дождя и ветра. Потянуло дымом, сырым запахом просушиваемой у огня одежды, лесным сумеречным духом с примесью снега.
По вытоптанной людьми и лошадьми лесной просеке – прорубаемой рабами для прохода армии – медленно двигалась рейда, запряженная шестью парами мускулистых рыже-красных коней. В глаза бросилось богатство отделки наружных стен и кровли. Впереди и сзади четырехколесной повозки, не отставая и не приближаясь, двигались около сотни всадников, отлично вооруженных мечами, алебардами и арбалетами. Герб, укрепленный в верхней части повозки заставил вздрогнуть мое сердце. Люция! Дочь Цезаря. Так вот кого так зорко и надежно сопровождают всадники! Гостья из Рима! Вдали от родины? Почему?
Снедаемый любопытством, я вскочил на коня и, рысью перегоняя эскорт, помчался к ставке императора. С Люцией я был знаком с детских лет. И мне нестерпимо захотелось увидеть ее, военная судьба бросала меня то в Испанию, то в Египет, а она знатная римлянка, наверное стала еще красивее. Добравшись до цели, я привязал своего Буцефала к шесту, вбитому в землю и замер в ожидании. Огромные колеса, окованные бронзовыми накладками медленно прокручиваясь и оставляя на земле глубокую колею, приближались и приближались и наконец – то остановились в трех шагах от меня.
Распахнулась дверь с мягкой внутренней рифленой подкладкой огненно – красного цвета, и я не удержавшись, видя что рядом еще никого нет, бросился к колесу, преклонил колено и подал руку выходившей. Тонкая белая ткань волною сбегающая от плеч к ногам, мягкие сандалии на маленьких безупречных ступнях – все выдавало в ней римскую знать – я поднял взор, увидел глаза и улыбку Люции, и на мгновение потерял дар речи. Эти локоны, цвет ее кожи, аромат – в опушенных ресницами глазах бесновалась синева несравнимая с итальянским небом – повергли меня в состояние статуи.
– Приветствую тебя, мой храбрый воин!
Она, подав невесомую руку и ступив ногою на мое колено, словно на ступеньку, ловко спрыгнула вниз, я даже не успел ее подхватить.
– Люция! С прибытием тебя!
– Да, спасибо, а ты очень изменился.
– Время меняет не только нас, но и Империю.
– Ваши поступки отдадутся эхом в вечности.
И она тронула мою щеку, я почувствовал исходящее тепло прикосновения, хотел прижаться к ее ладони губами, но Люция уже смотрела за мое плечо и глаза ее светились детскими нежными воспоминаниями. Обернувшись, я увидел приближающегося Цезаря со свитой и охраной, и, сделав шаг в сторону, склонил свою голову в почтении императору. Вновь оставшись неуловимой во времени, она легким промельком снега – появившись на один миг – бесследно растаяла. Щеки мои горели, и падало сердце в бездонную ледяную пропасть…
Шхуны приближались, уже можно было разглядеть спины гребцов, палубы, заваленные скарбом, оружием, бочками с порохом, слышались тяжелые мокрые удары весел, на носу одной из них стоял черноволосый гигант с двумя ятаганами в руках. Выглядел он живописно, огромная выпуклая грудь, покрытая бронзовым загаром – с толстой цепью на шее, переплетенный ремнями – он напоминал персонаж уже видимой где то картины. Волосы перехвачены по линии лба зеленой лентой и в правом ухе видна – сверкающая в солнечных лучах – огромная серьга. За его спиной волновалась толпа с разбойничьими лицами, поблескивали сабли, крючья и пики. Та шхуна, что шла с правой стороны, выписывая плавную дугу начала обходить наше судно со стороны носа. Мощными гребками, рыча в такт взлетающим и падающим веслам, они выходили на наш траверс.
– Билл!
Это я проревел с мостика, напугав и изумив одновременно свою спутницу. Комендор обернулся, и я увидел его воспаленный взор, он уже был там – в горячке боя – еще при полной тишине. Жерло носового орудия жадно глядело в морской простор, поджидая свою добычу.
Вторая шхуна накатывалась на наш левый борт. Мои матросы и команда, сгрудившись возле него, не спускали с нее глаз. Боковым зрением я увидел вспыхнувший фитиль в руках Билла, вылетевшее облако пороховых газов и только мгновением позже грохнул выстрел. Пушка, дернувшись назад, еще парила остатками порохового горения, но над дымом, в вертикально взлетающих огненных лучах были видны обломки досок, куски дымящейся ткани, и выше всех, в каком – то жутком стремительном кручении – турецкий барабан – с лохмотьями погибшего навсегда таинственного звука.
Абордажные крючья, вцепившиеся в наш борт, уже соединили каравеллу и шхуну в единое поле боя. В дыму выстрелов, в скрежетании сабель, возник полуголый гигант, срубил одного матроса, обрызгав свою грудь горячей кровью и пал пронзенный брошенной кем-то пикой. Грудь его круто поднялась кузнечными мехами и опала. В тот же миг на нее взлетели ботфорты, словно на ступеньку высокой лестницы, далее на ребро борта и вот они уже прыгнули вниз, на палубу шхуны. Это наш славный боцман, раскидав недругов при помощи палаша, сражался уже в стане противника. Спрыгнув с мостика через перила, я бросился в самую гущу.
Сбив ударом сабли бородатого испанца, перескочив через него и уклонившись от свистящего ятагана араба, ударил всей мощью ноги прямо в живот и тут же, не давая ему опомниться, ударил наискось от левого плеча. И далее, далее через борта сцепленных судов, на выручку своего храброго боцмана.
Там, на ставшей уже жаркой от солнца и буйного азарта палубе, шла восхитительная драка. Боцман, прижавшись спиной к фок-мачте, веерными ударами отражал нападавших на него. Их было четверо, но пока я прорывался к этой кипящей звоном клинков и восклицаний тесной компании, их уже осталось трое, четвертый вываливался за борт с окровавленным лицом. С ходу отбросив одного из разбойников ударом в ухо рукоятью сабли, я не теряя времени, рубанул второго поперек спины, и он, падая на колени, крепко ударился головой о палубу. Боцман сделал стремительный выпад – классически выставив ногу вперед и припав на колено – и заколол последнего.
И сразу вслед за этим эпизодом на меня обрушилась тишина. Вповалку лежали на палубе шхуны убитые, оставшиеся в живых и раненые. Отдыхавшие после яркой и тяжелой стычки, глотали из фляг несвежую воду и остатки рома, с недоумением взирая на следы происшедшего.
– Капитан! Что же Вы оставили меня одну? Мне страшно!
Я поднял глаза на мостик и увидел лицо испуганного ребенка. Глаза, расширенные от ужаса, побледневшие щеки, руки прижаты к груди и сжаты в кулачки. Я кинулся к ней, поднялся по деревянной лестнице и был тут же схвачен за широкие рукава рубахи, голова ее припала к моей груди, а маленький ее башмачок встал на мою ногу, и – чтобы освободиться от боли в старой ране – я приподнял свою пленницу обхватив за талию – увидел вблизи густую синеву глаз, влажные ресницы, набежавшую тень на верхних и нежные складки под нижними веками, след сбежавшей по щеке слезы, и, не удержавшись, приник губами к ее губам. И ощутив вожделенную сладость, таяло, таяло мое сердце.
Карета неслась по петербургским улицам. Долгая зимняя ночь уплывала назад, растворялась в холодном воздухе, дрожала легкими пушистыми снежинками в свете фонарей. Бледный свет падал через окно кареты на твои колени, прикрытые мехом длиннополой шубы, на нежный овал лица, и я изнемогал от прелести глаз, под невероятно долгими ресницами. Крепко держа твою ладонь – сама нетерпеливо сдернула варежку с горячей руки и нашла мою – я чувствовал на запястье слабые удары взволнованного сердца.
Только что, несколько минут назад, возвращаясь с бесконечного зимнего вечера в обществе художников, поэтов и меценатов, стоя на заснеженной аллее, глядя как ласково перебирает ветер серебрящийся мех на твоем соболином вороте, как взметнулись вверх ресницы и в распахнутых глазах застыло ожидание – я признался тебе в любви. Мгновенно вспыхнув, улыбаясь всем лицом – озябнув от неожиданности – радостно освобождаясь от смутных сомнений, ты потянулась всею линией тела, возбуждаясь горячечностью в глубине зрачков, и смогла только выдохнуть. – Милый! Я тоже…
И была остановлена моими губами. Шумел ветер над головами, сыпал снег, и все кружилось в пелене невероятной нежности смешанной с огненным непреодолимым желанием любить.
Познакомился я с нею в ветреный летний день во время морской прогулки в шумном кругу друзей и гостей, собравшихся на яхте по поводу годовщины спуска ее на воду. По Финскому заливу бежала невысокая пологая волна, на чистой палубе, под тентом вокруг столиков на плетеных креслах сидели, пили и ели, обменивались театральными новостями, хохотали, пели, мечтали, задумчиво опершись на руку. Ближе к носу яхты, держась за ограждения обеими руками, вытянувшись на носочках, стояла девушка, ветер трепал подол ее длинного платья цвета бирюзы, тонкая талия перехвачена пояском, светлые волнистые волосы плескались на фоне бесцветного неба, во всей хрупкой фигуре была какая то особая изящность, смутно вспоминаемая мной.
Я пошел вдоль борта, прикасаясь ладонью верхнего леера, смотрел на воду, на метавшихся чаек, на профиль девушки, и когда она повернулась ко мне – я на миг онемел, а мое сердце упало в волны залива. Ее глаза стали определением невиданной еще мною синевы, сравнимой с синевою удивительных зимних сумерек. Подойдя ближе, ощутив невесомый аромат, исходивший от нее, увидев руку с тонкими хрупкими пальцами, ступню, обутую в белую туфельку с золотистой застежкой – ветер мягко обрисовал выпуклость груди – я уже узнавал ее, сны не проходят бесследно. Тот летний вечер преследовал нас до сегодняшнего обоюдного признания.
Все смешалось; время, чувства, ласка и обожание – в те жаркие минуты случившегося в эту ночь. Глядя на нее, на сверкающие от усталости и счастья глаза, все еще испытывая волнение от свершившейся близости, помня ладонями и пальцами все ее изгибы и впадинки, бархатистость кожи и вздрагивающую грудь, все милые мелкие подробности, сердце мое разрывалось от любви и нежности. Она, почувствовав это, прильнула ко мне с такою бесконечной благодарностью, что я, возбуждаясь новой волною желания, принялся целовать ее лицо, глаза и ресницы, податливые губы.
Это был день высокого счастья! Именно с этой минуты, мы стали неразлучными с нею. Проснувшись утром, умывшись и приведя себя в порядок – офицерский мундир тонкой шерсти, сверкающие в свете лампы сапоги с высоким гладким голенищем, легкая армейская шинель и фуражка с высокой тульей – стремительным шагом вниз по лестнице, на улицу, в зимнюю круговерть, зажмуриваясь от низкого солнца и косо летящего снега, и звонко – в белую муть.