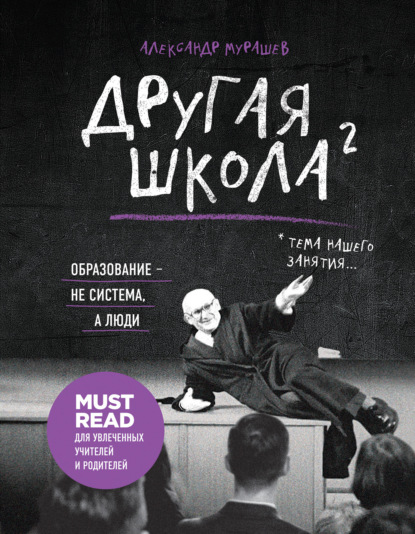По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Другая школа 2. Образование – не система, а люди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но вход выглядит совсем не так, как ты этого ожидаешь.
08:15
Кабинет директора
«Счастье или ЕГЭ?»
На двери – почти граффити: трафаретный портрет человека в очках и с бородой. Несколько секунд я размышляю, каким может быть директор школы, который изображен на этом рисунке. Встречая Кирилла Медведева впервые, ты действительно оказываешься в плотном кольце из собственных стереотипов: на инстинктивном уровне перед директором хочется извиниться даже за то, чего еще не совершал. Пару лет назад мне уже приходилось ощущать нечто подобное, когда в датской школе я спросил у модно одетого хипстера, не видел ли он директора Стеффана. Оказалось, что видел – хотя бы потому, что Стеффаном оказался он сам. «Разрыв шаблона» выглядит примерно так: когда самые интересные и глубокие разговоры случаются с людьми, которые выглядят совсем не так, как ты этого ожидаешь.
В первый момент сбивает с толку, что Кирилл достаточно молод – гораздо моложе многих своих коллег. То немногое, что я о нем знаю, похоже на бриф из папки для журналистов, которую пресс-атташе раздают журналистам перед началом интервью со знаменитостью. В прошлом – завуч одной из сильнейших математических школ России, преподаватель математики, методист программы «Учитель для России». При этом ни педагогом, ни тем более директором Кирилл становиться не собирался.
«Есть уверенные в себе люди, которые приходят в образование, не задавая себе вопрос: «Могу ли я чем-то навредить детям?» – говорит мне Кирилл. – Но вот меня этот вопрос волновал очень сильно. На первых курсах механико-математического факультета мне казалось, что шестиклассники подготовлены лучше меня – ведь я в их возрасте не решал таких же задач. Но во время аспирантуры у студентов было принято вести уроки в школах, и мне это понравилось – хотя свой самый первый урок я помню до сих пор. Поначалу школьники еще вели себя нормально, а потом начали мяукать и мычать, пускать мне в спину бумажные самолетики и отказываться делать задания. И я подумал, что для меня все происходящее будет вызовом. Мне было интересно решить этот вопрос как математическую задачку. Придумать, как с ней разобраться».
Когда на следующий день у школьников нашлись «экзотические причины» не сделать домашнее задание, Кирилл объявил о появлении системы «жесткая жесть». «В семестр или полугодие у меня можно было допустить не больше двух официальных «забываний» домашней работы. В остальных случаях я сразу ставил «два», – рассказывает Кирилл. – При этом чем хуже была оценка, тем шире открывались возможности. У тебя всегда были легальные способы решить проблему, а не уклониться от нее. Сдав контрольную на «два», ты мог сделать работу над ошибками и получить оценку лучше. Более того, «двойку» нужно было переделать. Не сделаешь работу над ошибками – получишь еще одну «двойку». Это была геометрическая прогрессия, как будто включался счетчик. Можно было «подписать контракт» на средний балл, обещая, что получишь определенную отметку. Или кому-то помочь и получить за это бонус. На отметки я смотрел статистически. Всем родителям объяснял, что нужно обращать внимание не на конкретную двойку, а на то, где она находится на кривой, в динамике. Потому что даже худшая оценка будет воспринята нормально, если это не инструмент учительского давления и не факт моей психологической разгрузки. «Двойка» – это всего лишь фиксация определенного объема труда».
По этой же причине у Кирилла нельзя было списывать: обнаружив одинаковые работы, он мог, например, порвать у школьника тетрадку. «Вся моя система была настроена на помощь, – говорит Кирилл. – Списывая, ребенок не помогает себе. Он нарушает механику взаимодействия со мной на уровне доверительных отношений. Я не хотел, чтобы от меня пытались укрыться, как от «карательной системы». На моих уроках с учителем можно было проговорить все, что с тобой происходит, но это не отменит обязательного задания».
Став директором, Кирилл Медведев все чаще начал слышать от родителей вопрос: «Вы про счастье или про ЕГЭ?» «Как будто всегда есть либо одно, либо другое – причем подготовка к ЕГЭ заведомо снижает уровень счастья, – говорит Кирилл. – Но в том-то и дело, чтобы работать на стыке. Проще всего построить школу, где в течение десяти лет детей натаскивают на определенный результат. Но нужно ли это ребенку? Лично я считаю, что делать целью обучения сдачу экзаменов – это ошибка».
Десять лет назад преподавателя Кирилла Медведева удивило неосознанное стремление детей нарушать границы. «Парни постарше часто хотели пожать мне руку, – вспоминает Кирилл. – И сразу же возникала мысль: что ты должен сделать в ответ? Никто ведь не учит, как поступать, если девятиклассник хлопает тебя по плечу со словами: «Кирилл Владимирович, проверите работу?» И ты сразу же думаешь: это провокация? Он поспорил со своими друзьями и в следующий раз уже хлопнет тебя по голове? Или наоборот: он так сильно тебе доверяет, что может позволить себе общаться подобным образом? Вдруг он только нащупал контакт, а ты его отстранил».
В нескольких тысячах интервью на школьную тему мои собеседники из раза в раз подтверждали простую мысль: мы всегда запоминаем не знания, а людей. Вовремя сказанное слово, важный для нас совет, тот самый «нащупанный контакт». Правда, остается скучный и рациональный здравый смысл – и он напоминает, что есть грань, которую лучше всего описала преподавательница МГУ Татьяна Краснова. Тонкую линию между «счастьем и ЕГЭ» она сравнила со сжатием шланга в тот момент, когда ты хочешь полить сад. Если просто держать водопроводный шланг в руке, то вода будет стекать на цветы, которые растут прямо перед тобой. Но стоит немножко сжать ладонь – и появится мощная струя воды, которая доберется даже до растений вдалеке. Почти как в математической задаче, в конце появляется вопрос: в какой момент нужно сжимать шланг? И насколько сильно?
«Я считаю, что в отношениях с детьми нет единой границы, – говорит мне Кирилл. – Есть шкала, по которой ты все время двигаешься: от большей демократии к большей авторитарности. В зависимости от того, что требуется сейчас. Как учитель, ты всегда находишься в неравной позиции по отношению к ученику. Например, нарушение физической границы может происходить только в определенном возрасте и определенных условиях. Например, маленький ребенок сильно расстроен, и педагог придержал его за плечо. Это очень деликатный момент: если малыш бежит к вам с распростертыми объятиями и обнимает за ногу, то отталкивать его нельзя хотя бы потому, что он не поймет такого поступка со стороны взрослого».
«Невозможно добиться дисциплины без попыток разобраться в себе».
Кирилл Медведев
У самих школьников вопрос границ решается куда проще: любой старшеклассник за первые минуты общения безошибочно считывает, как будет себя вести с учителем. Вчерашний выпускник педагогических вузов традиционно пользуется куда меньшим пиететом по сравнению с аксакалом педагогики. Тем, кто своими молчаливыми размышлениями над вопросом «кого вызвать к доске» может довести до исступления целый класс.
Из любопытства я часто спрашивал людей об уважении к преподавателю, и в половине случаев выяснялось, что признание люди путали со страхом. Поэтому в каждом разговоре с учителями я решил спрашивать, из чего складывается уважение к учителю сейчас, когда функция «педагога как передатчика знаний» устарела. «Работая в школе, я сталкивался не только с проблемой неадекватного отношения учителя к ученику, но и неадекватного отношения преподавателя к себе, – говорит в ответ Кирилл. – В этой профессии твое личное состояние не только быстро отражается на окружающих, оно еще и «зеркалится» тебе детьми. Для меня синдром нездоровой ситуации – когда преподаватель начинает фразу со слов: «Эти дети невыносимы! Что с ними можно сделать?» Потому что это – вынесение диагноза самому себе. Ожидаешь хамства и неуважения? Воспринимаешь любую конфликтную ситуацию как личное оскорбление? Дети проявят ровно то, чего ты от них ждешь. Большая часть проблем с дисциплиной в классе – сигнал внутренних сложностей учителя. Не получится добиться дисциплины без попыток разобраться в себе, не проработав собственные нерешенные вопросы».
На пути в учительскую Кирилл вспоминает недавний уход одного из преподавателей «из-за неуважения школьников». «История звучала так: «Я вышла из кабинета, а ребенок взял ручку из лежавшего на моем столе пенала», – рассказывает Кирилл. – «Это был особенный ребенок, ему все пытались помочь, и он просто мог не понять, что перед ним был пенал преподавателя – дети иногда не ценят чужую собственность. Может быть, он искал ручку, чтобы что-то записать». В ответ я спросил: «А что вы как учитель с этим сделали? Как проработали ситуацию? С кем поделились?» – «Я ни во что не включалась. Но так я работать не могу». Мне кажется, что это вообще типично для нашей сферы образования: не разбираться в сути проблемы, не рефлексировать на тему своих отношений с другими».
Лучшие из встреченных мной директоров знали о каждом своем ученике хотя бы одну маленькую деталь. Не нужно много усилий, чтобы задать школьнику вопрос наподобие «Как поживает твоя сестра?». Но этот нехитрый прием дает детям ощущение, что каждый из них значим сам по себе. Как там звучало? Люди могут забыть, что ты говорил или делал, но они никогда не забудут, как ты заставил их себя чувствовать. Многие выпускники рассказывали мне, насколько сильно они ценили то, что директор даже просто знал их имена.
При появлении Кирилла хохот детей в коридорах школы не сменяется отрепетированным виноватым видом, и с каждым встречным Медведев перекидывается несколькими фразами. «Когда я был методистом в «Учителе для России», мы работали с детьми, травмированными другими педагогами, – Кирилл открывает передо мной дверь в еще один кабинет, который у большинства из нас ассоциируется с наказанием. – Эти школьники начинали урок с фраз «Мы этого не поймем», «Нам уже это объясняли» и «Что вы от нас хотите?». У них не было других средств общения, с помощью которых они могли бы объяснить свою боль, страдания и сложности. Это все падало грузом на учителя. На моих глазах молодые ребята выходили работать учителями в сентябре, а уже в ноябре заболевали – кто гриппом, у кого обострялись хронические заболевания. Потому что дети всегда тебе очень быстро возвращают твое же состояние в самых разных вариантах, да еще и в стократном размере. К этому нужно быть готовым».
За время короткого перерыва между уроками я успеваю поговорить с учителями о том, как победить в себе «внутреннюю Марьиванну», которой им быть не хочется. «Матвей, ты когда-нибудь общался с преподавателем на «ты»?» – спрашивает проходящего мимо старшеклассника учитель математики Юрий Подкопаев. «Общался, и мне это очень не понравилось», – отвечает школьник. Я чувствую, как мои глаза округляются: разве не о таком преподавателе-друге мечтает большинство детей? Заметив мой невысказанный вопрос, Матвей объясняет: вместе с переходом на «ты» преподаватель дал ему надежду, что теперь отношения будут другими – ровно до следующего отчитывания за ошибки. Одним неформальным общением не добьешься доверия. Для этого понадобятся другие инструменты, многие из которых я увижу уже на следующем уроке.
Изучая расписание, я наткнусь на уроки литературы у старшеклассников, где они должны проходить «Войну и мир» сразу у двух разных преподавателей. В предвкушении того, как можно подать эпопею Толстого в век, когда текст больше одной страницы – уже лонгрид, я отправляюсь на урок к Сергею Волкову. Там я получу ответы сразу на два вопроса: «Почему им не интересна классика?» и «Почему они ничего не читают?».
08:30
Урок литературы
«Представьте, что за вас гибнут люди»
Длинными штрихами преподаватель Сергей Волков делит школьную доску на три части. «У нас есть три сюжетные линии и шестьсот героев, – поясняет Волков. – «Война и мир» – это Большой адронный коллайдер. Огромное пространство, где сталкивается множество частиц и людей. И за кем-то автор следит с особенным интересом».
По напряженным лицам и сбивчивым вопросам понятно, что книгу никто из учеников не прочел. На эпопею Толстого дети реагируют вяло: отношения Николая Ростова и Пьера Безухова для них безнадежно далеки. Ровно до определенного момента. «Ростов говорит Пьеру: «Государство – это хорошо. Вы с этим не согласны? Что ж, получите пулю». Как поступить, если помощь другим обязывает тебя выстраивать отношения с государством?» Внезапно Сергей Волков возвращает весь класс к реальности, рассказывая о благотворителе Нюте Федермессер, которая ради помощи пациентам хосписов баллотировалась в Мосгордуму. «Кто-нибудь из вас знает, что такое хоспис?» – спрашивает Волков, рисуя школьникам картину мест, в которых люди проводят последние месяцы своей жизни. Может быть, это искреннее подростковое желание изменить мир, а может, Сергею Волкову удалось разбудить что-то в детях. Но в ответ на вопросы о проявлениях несправедливости и пределах компромисса школьники начинают отзываться.
Чем дальше, тем больше происходящее становится похоже на спектакль. Старшеклассники сидят затаив дыхание. Волков возвращается к Толстому. «Чем роман-эпопея отличается от простого романа? – продолжает он закидывать сидящих в классе вопросами. – Обычно в произведении есть фрагмент реальности, и автор хочет, чтобы мы судили по нему о жизни. Есть начало – пролог, есть конец – эпилог. Выстроенная линия и ведущие к ней обстоятельства. Но это же не работает! Почему?» Класс все еще настороженно молчит. «Потому что у жизни нет начала и конца. Нет главного и второстепенного. Нет движения от одного к другому. Жизнь – это очень сложное, разветвленное и непонятно к чему ведущее нечто. Толстой начинает ткать этот ковер на наших глазах: если заканчивается произведение, заканчивается и кусок жизни».
Урок Сергея Волкова
Волков рассказывает школьникам о том, что Кутузов посылает четыре тысячи солдат перекрыть дорогу Наполеону. Сутки эти люди должны будут сдерживать французскую армию, чтобы русские смогли отступить. И Кутузов, отправляя своих солдат на бой, понимает, что подавляющее большинство из них погибнет. Каково это – принять такое решение? «Представьте, что за вас гибнут люди, – обращается к старшеклассникам преподаватель, и в классе повисает тишина. – Четыре тысячи человек. Сколько пространства они занимают? Встаньте и посмотрите из окна на футбольное поле. Посчитайте, поместится ли там четыре тысячи человек?» Ученики подходят к окну и, перебивая друг друга, начинают спорить и производить математические расчеты. В этот самый момент описанная Толстым история становится ближе.
«Не могу понять, хороший сейчас был урок или нет, – говорит мне Сергей Волков, закрывая дверь опустевшего после занятия кабинета. – Я часто задавал себе этот вопрос раньше. И пришел к выводу, что хороший урок – это когда мне, ученику, хочется вернуться и договорить. Я сам не понял, что произошло в эти сорок минут, но я бы хотел продолжить. Если урок прошел так – значит, все получилось».
Возможно, одна из причин вернуться – то, что Волков сознательно уделяет внимание незначительным (на первый взгляд) деталям. «Я помню свои личные обиды на учителей. В старших классах у меня была серьезная любовь. А преподаватель нес что-то в духе «вы еще дети и ничего не понимаете», – вспоминает Сергей. – Я был тогда в ужасе: как этот человек может с нами работать, если мои чувства для него – ерунда? Мне очень важно, что ощущает человек, с которым я нахожусь во взаимодействии. И это внимание проявляется задолго до урока. Я люблю приходить пораньше, чтобы увидеть, с каким настроением они входят в класс. Обязательно замечу: «Отличная прическа» или «Что-то ты невесел». Мне нужно завести со школьниками разговор до того, как у нас начнется урок. Большая часть моих преподавательских усилий уходит именно на поддержку контакта с учениками. На внимательное слушание, заинтересованный разговор. Потому что, если происходящее не цепляет их эмоционально, если они никак не включены, я сам перестаю понимать, зачем я все это делаю. Вот сейчас я попросил детей посчитать, влезут ли четыре тысячи человек на футбольное поле, просто для того, чтобы они встали и начали спорить. Когда примеряешь на себя, услышанное перестает быть чем-то абстрактным. И «держать» школьников нужно не дисциплиной, а разговором, который цепляет их внутренние крючки».
«Мне очень важно, что ощущает человек, с которым я нахожусь во взаимодействии».
Сергей Волков
«Я как-то был на открытом уроке в сельской школе, куда приехала группа педагогов из 50 человек, – продолжает Волков, пока мы идем по коридору. – Бедная учительница на глазах полусотни проверяющих вела занятие. А потом комиссия приступила к оценке. Оказалось, что существует целых 25 пунктов, по которым определяется хороший урок. Например, включил проектор – получил определенное количество баллов. И в конце занятия по цифрам все было прекрасно, а по ощущениям урок не получился. Внутри себя я понял почему: это был симулякр, хорошо сделанная пустая оболочка. У преподавателя был шок, когда на уроке ученица не поняла вопроса. «Ты что, с ума сошла?» – сказала она в ответ с яростью. А для меня такие ситуации – как раз начало хорошего урока. Ты не понимаешь, я сам не понимаю – отлично, будем вместе разбираться. Значит, тебя что-то зацепило, нам есть о чем поговорить».
В 1976 году молодой Дастин Хоффман готовился к роли в легендарном «Марафонце», где его герой мучается от бессонницы трое суток. Хоффман подошел к съемкам со всей серьезностью: не спал три дня, не принимал душ и не чистил зубы. Когда на съемках изможденный актер встретился с экранным партнером Лоуренсом Оливье, тот с удивлением и по-отечески спросил: «Мой дорогой мальчик, а вы не пробовали просто играть?» Когда-то от одного преподавателя я услышал, что учитель должен быть актером, включая в нужный момент ради ученика «горящий взгляд». И, наблюдая за Волковым, я думаю: неужели ему всегда интересны дети, даже если они говорят что-то откровенно глупое? Или он просто хороший актер? «Я спрашиваю у детей только то, что мне искренне интересно самому, – говорит Сергей. – Задаю вопрос, на который не знаю ответа, и пытаюсь вместе с ними размышлять. Мне кажется, что урок не должен быть «другой реальностью», где люди сорок минут говорят специальными голосами не о том, о чем они разговаривают обычно. Урок – это продолжение жизни. Вот почему я люблю беседу, из которой вынимаются важные точки и связываются между собой. Тогда у детей пропадает ощущение, что урок – это понарошку. Общаясь с классом, мне важно показать, что у тебя есть отдельные ниточки своих разговоров с каждым. Это как лунная дорожка: все стоят на берегу, но ощущение, что свет на поверхности воды идет только к тебе».
09:20
«Гуглим, пока не найдем правильный источник»
«Я считаю, что «Война и мир» – это скучнейший роман, который нужно убрать из школьной программы», – начинает следующий урок литературы Анастасия Серазетдинова.
В ответ повисает тишина, и удивление школьников становится почти осязаемым. Одна из учениц выходит из ступора первой: «В смысле? Это не так». Ее фраза оборачивается стартовой точкой для дискуссии «Что хотел сказать автор?». Причем ученики во многом попытаются переубедить учителя в том, что Толстой школьной программе все-таки необходим.
Перед началом урока литературы я испытаю жгучий укол ревности – причем к преподавателю. Собрав вокруг себя компанию старшеклассников, я, с интонациями автора социологического исследования, начну выяснять их честное мнение о школе и уроках. Умение разговорить даже дружелюбно настроенных подростков требует максимальной уязвимости и искренности. Ты всегда либо свой, либо чужой, неизбежно проходя стадию оценивания: можно ли тебе доверять? Чего ты действительно хочешь? Стоило мне доказать, что я «свой» (или самонадеянно решить, что у меня это получилось), как в кабинет зашла Анастасия Серазетдинова, и дети мгновенно переключили внимание на нее. Пройдет немного времени, и я оставлю себе новую заметку на полях. Кое-что важное, к чему буду возвращаться снова и снова: хороший учитель – это человек, которому доверяешь.
Бывший журналист, рассказывавший телезрителям о запуске ракет на Чукотке, Серазетдинова – подтверждение идеи, что интерес к детям важнее диплома и десятилетий преподавательского стажа. Когда-то Настю выгнали с последнего курса педагогического университета с формулировкой «с такими взглядами в школе преподавать нельзя». В первом же выпуске у Серазетдиновой были 100-балльники по ЕГЭ и участники региональной олимпиады по литературе, поступившие в Британскую школу дизайна и переехавшие учиться в Милан. «Я пришла в школу, когда мне было 23, и сразу взяла девятый класс, увидев перед собой не детей, а огромных мужиков, – говорит Серазетдинова. – И тогда я научилась показывать, что я опытнее. На замечания школьников: «Вы же молодая», я отвечала: «Да, но смотри – я умею вот это и это. Ты хочешь у меня учиться или будешь со мной соревноваться?» При этом у меня никогда в жизни не было ощущения, что меня не уважают. Скорее дети прощупывали мои границы».
Как и Сергей Волков, Серазетдинова старается замечать детей. «Чем старше ребенок, тем меньше ему говорят о том, что он прекрасен. Поэтому перед уроком в классе я всегда подмечаю: «Слушай, ты так здорово сегодня выглядишь», «У тебя такая красивая юбка» или «Ты такой красавчик», – рассказывает Анастасия. – При этом за восемь лет преподавания я сделала вывод, что по отношению к детям всегда нужно быть открытым, но не нужно раскрываться им так же, как они это делают с тобой». Минуту спустя я понимаю, о чем идет речь. Когда-то старшеклассницы приходили к Серазетдиновой рассказать про самые личные подробности своей жизни. «Девочки понимали, что им безопасно об этом говорить, потому что точно знали: я сохраню все услышанное в секрете, – говорит Настя. – Они доверяли мне вещи, с которыми потом было тяжело уже мне. Ведь не бывает тех, кто держит все в себе, – даже Толстой писал дневники. А дети приходят рассказать, потому что иначе они лопнут. Я спрашивала: «Чего ты сейчас от меня хочешь? Что я должна сделать в ответ?» Как правило, школьники отвечали: «Просто послушать».
«Умение разговорить даже дружелюбно настроенных подростков требует максимальной уязвимости и искренности».
Анастасия Серазетдинова
Несколько раз я проводил на радио эксперимент: приглашал подростков в студию, где в прямом эфире они давали советы родителям о том, как общаться с детьми. Дело даже не только в том, что после каждой программы на детей по-новому смотрели и их родители, и слушатели. После каждого выпуска подростки расцветали как цветок, который давно требовал полива. «Как здорово, когда тебя впервые в жизни слушают», – призналась одна из школьниц после программы.
«Все педагогические приемы мне показала моя учительница химии, – рассказывает после урока Настя. – Она всегда говорила: «Первое, что ты должен сделать, – удивить детей. Вызвать у них любопытство. Не сможешь этого сделать – будешь мучиться целый урок, все усилия будут впустую». Одна из преподавательниц филологического факультета МГУ рассказывала мне, как заходила в аудиторию с громким возгласом: «А Цветаева – лесбиянка!» В ответ студенты удивленно затихали, и тогда она быстро накидывала все, что хотела сказать, а дальше начинался живой разговор с учениками. Важен эффект неожиданности: как ты зайдешь в кабинет, так урок и проведешь. Поэтому я прихожу к десятому классу со словами: «Птички мои!», и они сразу реагируют: «Кто?!» Или иногда, еще из коридора, я начинаю громко говорить, растягивая слова: «Итак, я проверила работы…»
Нужно разорвать шаблон, совершить то, что преподаватель «не должен делать». После такого начала дети в классе всегда будут «твоими».
Фильмы в жанре «мокьюментари» часто используют такой прием: имитируя репортерскую камеру, мы наблюдаем за происходящим глазами оператора. До тех пор, пока не увлекаемся историей и не замечаем, что дрожащей камеры больше нет: мы давно смотрим традиционно снятый художественный фильм. Еще только зайдя в класс, Серазетдинова рассаживает школьников вокруг себя, создавая скорее атмосферу задушевного разговора у костра, а не классического кабинета. В какой-то момент Настя отходит и наблюдает, как дети обсуждают между собой произведение сами. Я пытаюсь выцепить фразы – ведь не может быть, чтобы абсолютно все были включены в процесс, когда у тебя есть легальная возможность поговорить под общий шум обо всем, что угодно.
Все-таки может.
08:15
Кабинет директора
«Счастье или ЕГЭ?»
На двери – почти граффити: трафаретный портрет человека в очках и с бородой. Несколько секунд я размышляю, каким может быть директор школы, который изображен на этом рисунке. Встречая Кирилла Медведева впервые, ты действительно оказываешься в плотном кольце из собственных стереотипов: на инстинктивном уровне перед директором хочется извиниться даже за то, чего еще не совершал. Пару лет назад мне уже приходилось ощущать нечто подобное, когда в датской школе я спросил у модно одетого хипстера, не видел ли он директора Стеффана. Оказалось, что видел – хотя бы потому, что Стеффаном оказался он сам. «Разрыв шаблона» выглядит примерно так: когда самые интересные и глубокие разговоры случаются с людьми, которые выглядят совсем не так, как ты этого ожидаешь.
В первый момент сбивает с толку, что Кирилл достаточно молод – гораздо моложе многих своих коллег. То немногое, что я о нем знаю, похоже на бриф из папки для журналистов, которую пресс-атташе раздают журналистам перед началом интервью со знаменитостью. В прошлом – завуч одной из сильнейших математических школ России, преподаватель математики, методист программы «Учитель для России». При этом ни педагогом, ни тем более директором Кирилл становиться не собирался.
«Есть уверенные в себе люди, которые приходят в образование, не задавая себе вопрос: «Могу ли я чем-то навредить детям?» – говорит мне Кирилл. – Но вот меня этот вопрос волновал очень сильно. На первых курсах механико-математического факультета мне казалось, что шестиклассники подготовлены лучше меня – ведь я в их возрасте не решал таких же задач. Но во время аспирантуры у студентов было принято вести уроки в школах, и мне это понравилось – хотя свой самый первый урок я помню до сих пор. Поначалу школьники еще вели себя нормально, а потом начали мяукать и мычать, пускать мне в спину бумажные самолетики и отказываться делать задания. И я подумал, что для меня все происходящее будет вызовом. Мне было интересно решить этот вопрос как математическую задачку. Придумать, как с ней разобраться».
Когда на следующий день у школьников нашлись «экзотические причины» не сделать домашнее задание, Кирилл объявил о появлении системы «жесткая жесть». «В семестр или полугодие у меня можно было допустить не больше двух официальных «забываний» домашней работы. В остальных случаях я сразу ставил «два», – рассказывает Кирилл. – При этом чем хуже была оценка, тем шире открывались возможности. У тебя всегда были легальные способы решить проблему, а не уклониться от нее. Сдав контрольную на «два», ты мог сделать работу над ошибками и получить оценку лучше. Более того, «двойку» нужно было переделать. Не сделаешь работу над ошибками – получишь еще одну «двойку». Это была геометрическая прогрессия, как будто включался счетчик. Можно было «подписать контракт» на средний балл, обещая, что получишь определенную отметку. Или кому-то помочь и получить за это бонус. На отметки я смотрел статистически. Всем родителям объяснял, что нужно обращать внимание не на конкретную двойку, а на то, где она находится на кривой, в динамике. Потому что даже худшая оценка будет воспринята нормально, если это не инструмент учительского давления и не факт моей психологической разгрузки. «Двойка» – это всего лишь фиксация определенного объема труда».
По этой же причине у Кирилла нельзя было списывать: обнаружив одинаковые работы, он мог, например, порвать у школьника тетрадку. «Вся моя система была настроена на помощь, – говорит Кирилл. – Списывая, ребенок не помогает себе. Он нарушает механику взаимодействия со мной на уровне доверительных отношений. Я не хотел, чтобы от меня пытались укрыться, как от «карательной системы». На моих уроках с учителем можно было проговорить все, что с тобой происходит, но это не отменит обязательного задания».
Став директором, Кирилл Медведев все чаще начал слышать от родителей вопрос: «Вы про счастье или про ЕГЭ?» «Как будто всегда есть либо одно, либо другое – причем подготовка к ЕГЭ заведомо снижает уровень счастья, – говорит Кирилл. – Но в том-то и дело, чтобы работать на стыке. Проще всего построить школу, где в течение десяти лет детей натаскивают на определенный результат. Но нужно ли это ребенку? Лично я считаю, что делать целью обучения сдачу экзаменов – это ошибка».
Десять лет назад преподавателя Кирилла Медведева удивило неосознанное стремление детей нарушать границы. «Парни постарше часто хотели пожать мне руку, – вспоминает Кирилл. – И сразу же возникала мысль: что ты должен сделать в ответ? Никто ведь не учит, как поступать, если девятиклассник хлопает тебя по плечу со словами: «Кирилл Владимирович, проверите работу?» И ты сразу же думаешь: это провокация? Он поспорил со своими друзьями и в следующий раз уже хлопнет тебя по голове? Или наоборот: он так сильно тебе доверяет, что может позволить себе общаться подобным образом? Вдруг он только нащупал контакт, а ты его отстранил».
В нескольких тысячах интервью на школьную тему мои собеседники из раза в раз подтверждали простую мысль: мы всегда запоминаем не знания, а людей. Вовремя сказанное слово, важный для нас совет, тот самый «нащупанный контакт». Правда, остается скучный и рациональный здравый смысл – и он напоминает, что есть грань, которую лучше всего описала преподавательница МГУ Татьяна Краснова. Тонкую линию между «счастьем и ЕГЭ» она сравнила со сжатием шланга в тот момент, когда ты хочешь полить сад. Если просто держать водопроводный шланг в руке, то вода будет стекать на цветы, которые растут прямо перед тобой. Но стоит немножко сжать ладонь – и появится мощная струя воды, которая доберется даже до растений вдалеке. Почти как в математической задаче, в конце появляется вопрос: в какой момент нужно сжимать шланг? И насколько сильно?
«Я считаю, что в отношениях с детьми нет единой границы, – говорит мне Кирилл. – Есть шкала, по которой ты все время двигаешься: от большей демократии к большей авторитарности. В зависимости от того, что требуется сейчас. Как учитель, ты всегда находишься в неравной позиции по отношению к ученику. Например, нарушение физической границы может происходить только в определенном возрасте и определенных условиях. Например, маленький ребенок сильно расстроен, и педагог придержал его за плечо. Это очень деликатный момент: если малыш бежит к вам с распростертыми объятиями и обнимает за ногу, то отталкивать его нельзя хотя бы потому, что он не поймет такого поступка со стороны взрослого».
«Невозможно добиться дисциплины без попыток разобраться в себе».
Кирилл Медведев
У самих школьников вопрос границ решается куда проще: любой старшеклассник за первые минуты общения безошибочно считывает, как будет себя вести с учителем. Вчерашний выпускник педагогических вузов традиционно пользуется куда меньшим пиететом по сравнению с аксакалом педагогики. Тем, кто своими молчаливыми размышлениями над вопросом «кого вызвать к доске» может довести до исступления целый класс.
Из любопытства я часто спрашивал людей об уважении к преподавателю, и в половине случаев выяснялось, что признание люди путали со страхом. Поэтому в каждом разговоре с учителями я решил спрашивать, из чего складывается уважение к учителю сейчас, когда функция «педагога как передатчика знаний» устарела. «Работая в школе, я сталкивался не только с проблемой неадекватного отношения учителя к ученику, но и неадекватного отношения преподавателя к себе, – говорит в ответ Кирилл. – В этой профессии твое личное состояние не только быстро отражается на окружающих, оно еще и «зеркалится» тебе детьми. Для меня синдром нездоровой ситуации – когда преподаватель начинает фразу со слов: «Эти дети невыносимы! Что с ними можно сделать?» Потому что это – вынесение диагноза самому себе. Ожидаешь хамства и неуважения? Воспринимаешь любую конфликтную ситуацию как личное оскорбление? Дети проявят ровно то, чего ты от них ждешь. Большая часть проблем с дисциплиной в классе – сигнал внутренних сложностей учителя. Не получится добиться дисциплины без попыток разобраться в себе, не проработав собственные нерешенные вопросы».
На пути в учительскую Кирилл вспоминает недавний уход одного из преподавателей «из-за неуважения школьников». «История звучала так: «Я вышла из кабинета, а ребенок взял ручку из лежавшего на моем столе пенала», – рассказывает Кирилл. – «Это был особенный ребенок, ему все пытались помочь, и он просто мог не понять, что перед ним был пенал преподавателя – дети иногда не ценят чужую собственность. Может быть, он искал ручку, чтобы что-то записать». В ответ я спросил: «А что вы как учитель с этим сделали? Как проработали ситуацию? С кем поделились?» – «Я ни во что не включалась. Но так я работать не могу». Мне кажется, что это вообще типично для нашей сферы образования: не разбираться в сути проблемы, не рефлексировать на тему своих отношений с другими».
Лучшие из встреченных мной директоров знали о каждом своем ученике хотя бы одну маленькую деталь. Не нужно много усилий, чтобы задать школьнику вопрос наподобие «Как поживает твоя сестра?». Но этот нехитрый прием дает детям ощущение, что каждый из них значим сам по себе. Как там звучало? Люди могут забыть, что ты говорил или делал, но они никогда не забудут, как ты заставил их себя чувствовать. Многие выпускники рассказывали мне, насколько сильно они ценили то, что директор даже просто знал их имена.
При появлении Кирилла хохот детей в коридорах школы не сменяется отрепетированным виноватым видом, и с каждым встречным Медведев перекидывается несколькими фразами. «Когда я был методистом в «Учителе для России», мы работали с детьми, травмированными другими педагогами, – Кирилл открывает передо мной дверь в еще один кабинет, который у большинства из нас ассоциируется с наказанием. – Эти школьники начинали урок с фраз «Мы этого не поймем», «Нам уже это объясняли» и «Что вы от нас хотите?». У них не было других средств общения, с помощью которых они могли бы объяснить свою боль, страдания и сложности. Это все падало грузом на учителя. На моих глазах молодые ребята выходили работать учителями в сентябре, а уже в ноябре заболевали – кто гриппом, у кого обострялись хронические заболевания. Потому что дети всегда тебе очень быстро возвращают твое же состояние в самых разных вариантах, да еще и в стократном размере. К этому нужно быть готовым».
За время короткого перерыва между уроками я успеваю поговорить с учителями о том, как победить в себе «внутреннюю Марьиванну», которой им быть не хочется. «Матвей, ты когда-нибудь общался с преподавателем на «ты»?» – спрашивает проходящего мимо старшеклассника учитель математики Юрий Подкопаев. «Общался, и мне это очень не понравилось», – отвечает школьник. Я чувствую, как мои глаза округляются: разве не о таком преподавателе-друге мечтает большинство детей? Заметив мой невысказанный вопрос, Матвей объясняет: вместе с переходом на «ты» преподаватель дал ему надежду, что теперь отношения будут другими – ровно до следующего отчитывания за ошибки. Одним неформальным общением не добьешься доверия. Для этого понадобятся другие инструменты, многие из которых я увижу уже на следующем уроке.
Изучая расписание, я наткнусь на уроки литературы у старшеклассников, где они должны проходить «Войну и мир» сразу у двух разных преподавателей. В предвкушении того, как можно подать эпопею Толстого в век, когда текст больше одной страницы – уже лонгрид, я отправляюсь на урок к Сергею Волкову. Там я получу ответы сразу на два вопроса: «Почему им не интересна классика?» и «Почему они ничего не читают?».
08:30
Урок литературы
«Представьте, что за вас гибнут люди»
Длинными штрихами преподаватель Сергей Волков делит школьную доску на три части. «У нас есть три сюжетные линии и шестьсот героев, – поясняет Волков. – «Война и мир» – это Большой адронный коллайдер. Огромное пространство, где сталкивается множество частиц и людей. И за кем-то автор следит с особенным интересом».
По напряженным лицам и сбивчивым вопросам понятно, что книгу никто из учеников не прочел. На эпопею Толстого дети реагируют вяло: отношения Николая Ростова и Пьера Безухова для них безнадежно далеки. Ровно до определенного момента. «Ростов говорит Пьеру: «Государство – это хорошо. Вы с этим не согласны? Что ж, получите пулю». Как поступить, если помощь другим обязывает тебя выстраивать отношения с государством?» Внезапно Сергей Волков возвращает весь класс к реальности, рассказывая о благотворителе Нюте Федермессер, которая ради помощи пациентам хосписов баллотировалась в Мосгордуму. «Кто-нибудь из вас знает, что такое хоспис?» – спрашивает Волков, рисуя школьникам картину мест, в которых люди проводят последние месяцы своей жизни. Может быть, это искреннее подростковое желание изменить мир, а может, Сергею Волкову удалось разбудить что-то в детях. Но в ответ на вопросы о проявлениях несправедливости и пределах компромисса школьники начинают отзываться.
Чем дальше, тем больше происходящее становится похоже на спектакль. Старшеклассники сидят затаив дыхание. Волков возвращается к Толстому. «Чем роман-эпопея отличается от простого романа? – продолжает он закидывать сидящих в классе вопросами. – Обычно в произведении есть фрагмент реальности, и автор хочет, чтобы мы судили по нему о жизни. Есть начало – пролог, есть конец – эпилог. Выстроенная линия и ведущие к ней обстоятельства. Но это же не работает! Почему?» Класс все еще настороженно молчит. «Потому что у жизни нет начала и конца. Нет главного и второстепенного. Нет движения от одного к другому. Жизнь – это очень сложное, разветвленное и непонятно к чему ведущее нечто. Толстой начинает ткать этот ковер на наших глазах: если заканчивается произведение, заканчивается и кусок жизни».
Урок Сергея Волкова
Волков рассказывает школьникам о том, что Кутузов посылает четыре тысячи солдат перекрыть дорогу Наполеону. Сутки эти люди должны будут сдерживать французскую армию, чтобы русские смогли отступить. И Кутузов, отправляя своих солдат на бой, понимает, что подавляющее большинство из них погибнет. Каково это – принять такое решение? «Представьте, что за вас гибнут люди, – обращается к старшеклассникам преподаватель, и в классе повисает тишина. – Четыре тысячи человек. Сколько пространства они занимают? Встаньте и посмотрите из окна на футбольное поле. Посчитайте, поместится ли там четыре тысячи человек?» Ученики подходят к окну и, перебивая друг друга, начинают спорить и производить математические расчеты. В этот самый момент описанная Толстым история становится ближе.
«Не могу понять, хороший сейчас был урок или нет, – говорит мне Сергей Волков, закрывая дверь опустевшего после занятия кабинета. – Я часто задавал себе этот вопрос раньше. И пришел к выводу, что хороший урок – это когда мне, ученику, хочется вернуться и договорить. Я сам не понял, что произошло в эти сорок минут, но я бы хотел продолжить. Если урок прошел так – значит, все получилось».
Возможно, одна из причин вернуться – то, что Волков сознательно уделяет внимание незначительным (на первый взгляд) деталям. «Я помню свои личные обиды на учителей. В старших классах у меня была серьезная любовь. А преподаватель нес что-то в духе «вы еще дети и ничего не понимаете», – вспоминает Сергей. – Я был тогда в ужасе: как этот человек может с нами работать, если мои чувства для него – ерунда? Мне очень важно, что ощущает человек, с которым я нахожусь во взаимодействии. И это внимание проявляется задолго до урока. Я люблю приходить пораньше, чтобы увидеть, с каким настроением они входят в класс. Обязательно замечу: «Отличная прическа» или «Что-то ты невесел». Мне нужно завести со школьниками разговор до того, как у нас начнется урок. Большая часть моих преподавательских усилий уходит именно на поддержку контакта с учениками. На внимательное слушание, заинтересованный разговор. Потому что, если происходящее не цепляет их эмоционально, если они никак не включены, я сам перестаю понимать, зачем я все это делаю. Вот сейчас я попросил детей посчитать, влезут ли четыре тысячи человек на футбольное поле, просто для того, чтобы они встали и начали спорить. Когда примеряешь на себя, услышанное перестает быть чем-то абстрактным. И «держать» школьников нужно не дисциплиной, а разговором, который цепляет их внутренние крючки».
«Мне очень важно, что ощущает человек, с которым я нахожусь во взаимодействии».
Сергей Волков
«Я как-то был на открытом уроке в сельской школе, куда приехала группа педагогов из 50 человек, – продолжает Волков, пока мы идем по коридору. – Бедная учительница на глазах полусотни проверяющих вела занятие. А потом комиссия приступила к оценке. Оказалось, что существует целых 25 пунктов, по которым определяется хороший урок. Например, включил проектор – получил определенное количество баллов. И в конце занятия по цифрам все было прекрасно, а по ощущениям урок не получился. Внутри себя я понял почему: это был симулякр, хорошо сделанная пустая оболочка. У преподавателя был шок, когда на уроке ученица не поняла вопроса. «Ты что, с ума сошла?» – сказала она в ответ с яростью. А для меня такие ситуации – как раз начало хорошего урока. Ты не понимаешь, я сам не понимаю – отлично, будем вместе разбираться. Значит, тебя что-то зацепило, нам есть о чем поговорить».
В 1976 году молодой Дастин Хоффман готовился к роли в легендарном «Марафонце», где его герой мучается от бессонницы трое суток. Хоффман подошел к съемкам со всей серьезностью: не спал три дня, не принимал душ и не чистил зубы. Когда на съемках изможденный актер встретился с экранным партнером Лоуренсом Оливье, тот с удивлением и по-отечески спросил: «Мой дорогой мальчик, а вы не пробовали просто играть?» Когда-то от одного преподавателя я услышал, что учитель должен быть актером, включая в нужный момент ради ученика «горящий взгляд». И, наблюдая за Волковым, я думаю: неужели ему всегда интересны дети, даже если они говорят что-то откровенно глупое? Или он просто хороший актер? «Я спрашиваю у детей только то, что мне искренне интересно самому, – говорит Сергей. – Задаю вопрос, на который не знаю ответа, и пытаюсь вместе с ними размышлять. Мне кажется, что урок не должен быть «другой реальностью», где люди сорок минут говорят специальными голосами не о том, о чем они разговаривают обычно. Урок – это продолжение жизни. Вот почему я люблю беседу, из которой вынимаются важные точки и связываются между собой. Тогда у детей пропадает ощущение, что урок – это понарошку. Общаясь с классом, мне важно показать, что у тебя есть отдельные ниточки своих разговоров с каждым. Это как лунная дорожка: все стоят на берегу, но ощущение, что свет на поверхности воды идет только к тебе».
09:20
«Гуглим, пока не найдем правильный источник»
«Я считаю, что «Война и мир» – это скучнейший роман, который нужно убрать из школьной программы», – начинает следующий урок литературы Анастасия Серазетдинова.
В ответ повисает тишина, и удивление школьников становится почти осязаемым. Одна из учениц выходит из ступора первой: «В смысле? Это не так». Ее фраза оборачивается стартовой точкой для дискуссии «Что хотел сказать автор?». Причем ученики во многом попытаются переубедить учителя в том, что Толстой школьной программе все-таки необходим.
Перед началом урока литературы я испытаю жгучий укол ревности – причем к преподавателю. Собрав вокруг себя компанию старшеклассников, я, с интонациями автора социологического исследования, начну выяснять их честное мнение о школе и уроках. Умение разговорить даже дружелюбно настроенных подростков требует максимальной уязвимости и искренности. Ты всегда либо свой, либо чужой, неизбежно проходя стадию оценивания: можно ли тебе доверять? Чего ты действительно хочешь? Стоило мне доказать, что я «свой» (или самонадеянно решить, что у меня это получилось), как в кабинет зашла Анастасия Серазетдинова, и дети мгновенно переключили внимание на нее. Пройдет немного времени, и я оставлю себе новую заметку на полях. Кое-что важное, к чему буду возвращаться снова и снова: хороший учитель – это человек, которому доверяешь.
Бывший журналист, рассказывавший телезрителям о запуске ракет на Чукотке, Серазетдинова – подтверждение идеи, что интерес к детям важнее диплома и десятилетий преподавательского стажа. Когда-то Настю выгнали с последнего курса педагогического университета с формулировкой «с такими взглядами в школе преподавать нельзя». В первом же выпуске у Серазетдиновой были 100-балльники по ЕГЭ и участники региональной олимпиады по литературе, поступившие в Британскую школу дизайна и переехавшие учиться в Милан. «Я пришла в школу, когда мне было 23, и сразу взяла девятый класс, увидев перед собой не детей, а огромных мужиков, – говорит Серазетдинова. – И тогда я научилась показывать, что я опытнее. На замечания школьников: «Вы же молодая», я отвечала: «Да, но смотри – я умею вот это и это. Ты хочешь у меня учиться или будешь со мной соревноваться?» При этом у меня никогда в жизни не было ощущения, что меня не уважают. Скорее дети прощупывали мои границы».
Как и Сергей Волков, Серазетдинова старается замечать детей. «Чем старше ребенок, тем меньше ему говорят о том, что он прекрасен. Поэтому перед уроком в классе я всегда подмечаю: «Слушай, ты так здорово сегодня выглядишь», «У тебя такая красивая юбка» или «Ты такой красавчик», – рассказывает Анастасия. – При этом за восемь лет преподавания я сделала вывод, что по отношению к детям всегда нужно быть открытым, но не нужно раскрываться им так же, как они это делают с тобой». Минуту спустя я понимаю, о чем идет речь. Когда-то старшеклассницы приходили к Серазетдиновой рассказать про самые личные подробности своей жизни. «Девочки понимали, что им безопасно об этом говорить, потому что точно знали: я сохраню все услышанное в секрете, – говорит Настя. – Они доверяли мне вещи, с которыми потом было тяжело уже мне. Ведь не бывает тех, кто держит все в себе, – даже Толстой писал дневники. А дети приходят рассказать, потому что иначе они лопнут. Я спрашивала: «Чего ты сейчас от меня хочешь? Что я должна сделать в ответ?» Как правило, школьники отвечали: «Просто послушать».
«Умение разговорить даже дружелюбно настроенных подростков требует максимальной уязвимости и искренности».
Анастасия Серазетдинова
Несколько раз я проводил на радио эксперимент: приглашал подростков в студию, где в прямом эфире они давали советы родителям о том, как общаться с детьми. Дело даже не только в том, что после каждой программы на детей по-новому смотрели и их родители, и слушатели. После каждого выпуска подростки расцветали как цветок, который давно требовал полива. «Как здорово, когда тебя впервые в жизни слушают», – призналась одна из школьниц после программы.
«Все педагогические приемы мне показала моя учительница химии, – рассказывает после урока Настя. – Она всегда говорила: «Первое, что ты должен сделать, – удивить детей. Вызвать у них любопытство. Не сможешь этого сделать – будешь мучиться целый урок, все усилия будут впустую». Одна из преподавательниц филологического факультета МГУ рассказывала мне, как заходила в аудиторию с громким возгласом: «А Цветаева – лесбиянка!» В ответ студенты удивленно затихали, и тогда она быстро накидывала все, что хотела сказать, а дальше начинался живой разговор с учениками. Важен эффект неожиданности: как ты зайдешь в кабинет, так урок и проведешь. Поэтому я прихожу к десятому классу со словами: «Птички мои!», и они сразу реагируют: «Кто?!» Или иногда, еще из коридора, я начинаю громко говорить, растягивая слова: «Итак, я проверила работы…»
Нужно разорвать шаблон, совершить то, что преподаватель «не должен делать». После такого начала дети в классе всегда будут «твоими».
Фильмы в жанре «мокьюментари» часто используют такой прием: имитируя репортерскую камеру, мы наблюдаем за происходящим глазами оператора. До тех пор, пока не увлекаемся историей и не замечаем, что дрожащей камеры больше нет: мы давно смотрим традиционно снятый художественный фильм. Еще только зайдя в класс, Серазетдинова рассаживает школьников вокруг себя, создавая скорее атмосферу задушевного разговора у костра, а не классического кабинета. В какой-то момент Настя отходит и наблюдает, как дети обсуждают между собой произведение сами. Я пытаюсь выцепить фразы – ведь не может быть, чтобы абсолютно все были включены в процесс, когда у тебя есть легальная возможность поговорить под общий шум обо всем, что угодно.
Все-таки может.