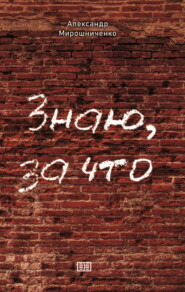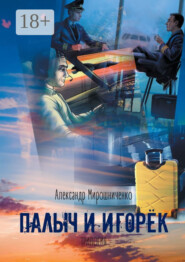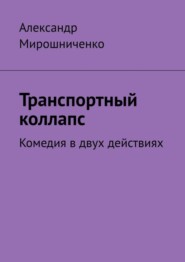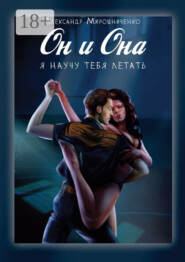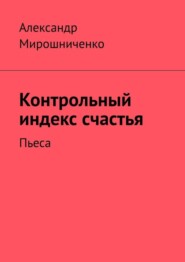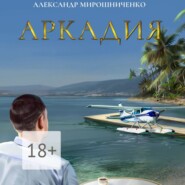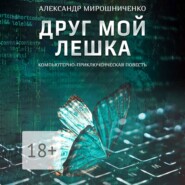По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шахматный клуб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно, конечно, – поторопился согласиться я. – Просто мне пришлось воспользоваться пунктом сто тридцать пять свода правил, который гласит…
– Я знаю, что гласят все три тысячи восемьсот пятьдесят пунктов, – закончила разговор теперь опять суровая домоправительница.
Взгляд Петра Карповича прилип к фигуре уходящей женщины, и мне пришлось хмыкнуть, чтобы он вспомнил, зачем пришёл.
– А что это за правило? – спросил Хромых.
– «Делай, что считаешь нужным, даже если это нужным кажется только тебе», – просветил я собеседника, прервавшего странный разговор с Тамарой Трофимовной.
пауза 1-я.
Разговор с Петровичем о литературе
Вечером я рассказывал Петровичу перипетии дня минувшего. И с удивлением для себя увидел, что собеседник, слушая меня, держит в руках бумажную салфетку. Перехватив мой взгляд, он пояснил, что аллергия замучила, и промокнул глаза. А после высморкался и, уже не скрывая, что растроган историей, добавил:
– Тебе бы написать про это. Очень трогательная история!
Я никак не ожидал, что мой старинный приятель такой сентиментальный. Немного поражённый этим фактом, я вспомнил кое-что:
– Как сказал один мой друг, «литература – это комок в горле, выплаканный словами на бумагу». Ну или на что там сейчас ложатся слова.
– Писатель? – спросил Петрович и на мой непонимающий взгляд объяснил вопрос: – Друг этот – писатель?
– «Писатель – это не тот, кто пишет, а тот, кого читают», – пришли на ум слова того же человека. – А кто сейчас книжки читает?
– Ну раз книжки есть, значит, кто-то их читает, – сделал логичное заключение собеседник. – Так что я бы сказал, что писатель – это тот, у кого есть хоть один читатель.
– Ну прям один читатель – и ты уже писатель? – усомнился я.
– А по твоему мнению, сколько нужно читателей, чтобы считать, что пишешь не напрасно? – задал вопрос Петрович и сам же ответил: – Если в душе хоть одного человека откликнулись слова и чувства пишущего, если хоть один человек посмотрел на мир глазами автора, то написавший сей текст и есть писатель. А цифры тиражей, продаж, номинации и награды – это всё мерило не литературы, а успеха и признания. К самому творчеству эта суета почти никогда отношения не имеет. И успех бывает незаслуженным, и признание заказным.
Меня немного ошарашил такой подход к писательскому ремеслу. Я не хотел с ним соглашаться, но и аргументов против предъявить не мог. Поэтому просто уточнил:
– Выходит, напиши я какой-то текст и, допустим, по моей просьбе кто-то прочтёт его, то я вроде как писатель? Так получается?
– Не совсем так, – тоном учителя, поясняющего простые истины бестолковому ученику, проговорил Петрович. – Читатель – это не тот, кто ознакомился с текстом. Читатель – этот тот, кто сопереживает автору. Испытывает те же эмоции, что и автор. А ещё находит в тексте то, о чём автор не предполагал, создавая своё произведение. Потому что литература – это всегда только про одного человека. Для автора – это про автора. Для читателя – это уже про него, про читателя. И да, это всё один и тот же текст. И если твоё произведение рождает такие сопереживания пусть у одного человека, то это и есть литература.
Я недолго думал и, по-моему, очень аргументированно возразил:
– Тогда у нас знаешь, сколько получится писателей, если использовать твои определения? К тому же давно почти никто не пишет. Все стучат по клавишам. Всё в электронном виде. Уже нельзя сказать, что «рукописи не горят», потому что и самих-то рукописей нет. Вон – кнопочку нечаянно нажал, и нет на диске ничего. Даже пепла.
Петрович опять посмотрел на меня снисходительно.
– Когда про рукописи говорили, ты что думаешь, иначе к бумаге относились? Тоже все считали, чирк спичкой и пропал труд творца навеки. Ан нет. Прошло время, и все убедились, что невозможно уничтожить никоим образом уже созданное творение. А ещё пройдёт время, и все узнают также, что не только рукописи не горят, но и файлы не делитятся. Всё сотворённое человеком в мире остаётся и вызывает всё новые и новые эмоции.
эпизод 10-й
После разговора с Петровичем на тему творчества я иначе стал смотреть на всё происходящее в клубе. Никаких литературных планов у меня не имелось, но относиться ко всему стал внимательнее однозначно. И первое, что мне бросилось в глаза, – это постоянные ссоры Чернова и Краснова. Вроде близнецы, вроде как должны быть дружны, а между ними все время какие-то стычки. При том что их невероятную схожесть они могли бы использовать себе во благо. Если, конечно, различные махинации с использованием одинаковой внешности можно назвать «во благо».
А похожи они были невероятно. Даже люди, знакомые с ними долгое время, их путали. А что тогда говорить о незнакомых участниках соревнований. То есть перспективы открывались невиданные. Но братья утверждали, что никогда этим не пользовались. Да и особых целей делать подобное не просматривалось.
Однако про все эти размышления я быстро забыл за суетой – мы готовились к чемпионату клуба, особенному в данном случае. К привычному составу участников добавился ещё один кандидат, заявивший претензии на чемпионство – Иван Крылов. В связи с тем, что действующим чемпионом являлся Александр Чернов – старший из близнецов, то решили провести турнир претендентов, чтобы выяснить, кто в итоге сразится за звание чемпиона. Турнир проходил по олимпийской системе, где игроки играли мини-матчи из четырёх партий, в случае ничейного результата – блиц до первой победы. Для тех, кто ещё незнаком с шахматами, поясню: блиц – это шахматная партия с очень сокращённым временем на обдумывание хода. У нас это было десять секунд.
Иван Андреевич успешно прошёл по сетке и испытывал проблемы только в финальном матче турнира претендентов, когда сел за стол с Алексеем Красновым. Поскольку оба играли в открытые атакующие шахматы, мини-матч закончился со счётом 2:2, где каждый по два раза победил белыми. А вот уже в блице победу праздновал бравый офицер и теперь предстоял матч за шахматную корону клуба.
Финальную схватку назначили на субботу, члены шахматного клуба и даже болельщики собрались загодя в предвкушении интересного спортивного события. Зрители разделили свои симпатии поровну. Мне даже удалось при помощи родственных связей, а также знакомых и знакомых знакомых заполучить судью международной категории, который был обязан подруге мужа сестры моей бабушки, что из Питера.
Перед началом поединка судья озвучил регламент проведения матча и провёл жеребьёвку. Белыми начинал Иван Андреевич. Все члены клуба знали, что если один из братьев был силён в открытых дебютах и предпочитал атакующие шахматы, что мы и увидели в финале турнира претендентов, то чемпион предпочитал закрытые шахматы, когда, находясь в защите, он ожидал ошибок и просчётов соперника. Это было менее зрелищно, но соперничество столь разных стилей также подогревало интерес публики.
Ожидаемо в первой же партии белые еще в дебюте потеряли инициативу благодаря использованию чёрными защиты Нимцовича, и партия закономерно пришла к ничьей. После короткого перерыва во второй партии чемпион на удивление стал играть открытый итальянский дебют. Более того – в несвойственной для себя манере использовал гамбит Эванса, то есть отдал пешку за инициативу и, использовав незначительный промах претендента, довёл партию до победы, следовательно, повёл в мачте.
В следующей партии атакующая игра белых снова, как и в первой партии, увязла в плотной обороне чёрных и уже в миттельшпиле был ясен ничейный результат. Так чемпион снова сохранил лидерство.
А в четвёртой партии на удивление болельщиков и, похоже, чемпиона претендент вдруг разыграл ферзевый гамбит. То есть выбрал закрытый дебют, что означало кардинальную смену стиля игры. Чемпион явно был не готов к такому повороту событий, но зрители не сомневались, что претендент допустил ошибку. Играя в защите с Александром Черновым, он очень сильно рисковал, ступив на территорию, где противник был очень силён.
Но дела у чемпиона пошли не очень хорошо. Он ничего не мог противопоставить белым, которые методично начали осаждать позиции чёрных. Зрители не узнавали чемпиона. Наконец, допустив несколько неудачных ходов, в результате которых преимущество белых возросло, Краснов на своём ходе попросил судью разрешение выйти в туалет.
Крылов по-дружески прижал руки чемпиона к столу и произнес:
– Ты же мужик – потерпи, недолго осталось.
Но Александр повторил свою просьбу. Судья пояснил, что в регламенте мачта не предусмотрены перерывы, поэтому часы на время отсутствия участника останавливаться не будут, а также напомнил, что в это время игрок не может пользоваться литературой или чьими бы то ни было советами.
Когда действующий чемпион удалился, Иван Андреевич привлёк внимание судьи, показывая ему на лежавшую на столе запонку.
– Вот, – сказал претендент. – А ты пускать не хотел. Оказывается, человек так в туалет торопился, что часть одежды потерял.
В этот момент к столу вернулся повеселевший чемпион. Иван, будучи тоже в приподнятом настроении, вручил ему запонку. Однако, увидев, как смешался противник, добавил:
– Давай я тебе помогу, – и с этими словами вытянул белоснежный манжет сорочки чемпиона.
Но на нём была запонка.
– Вот незадача, – рассмеялся офицер. – Должно быть, я рукава перепутал.
И представил публике другой рукав, на котором тоже имелась запонка.
– Бывают же такие чудеса, – констатировал претендент и сел за шахматный стол. Чемпион также занял место напротив, но ненадолго. Только чтобы написать в своём бланке, что признаёт поражение, и поставить подпись.
Когда я дома рассказывал о поразивших меня событиях шахматного турнира, то постоянно отвлекался на недовольство по поводу того, что братья, которые постоянно ссорились, вдруг организовали такое мошенничество, подменяя друг друга в партиях за белых и чёрных. На что Петрович вполне безразлично заявил, что его это ни чуточки не удивляет и он всегда подозревал неладное в таких показательных ссорах братьев-близнецов. К тому же они никогда не присутствовали в качестве болельщиков друг за друга на турнирах, что позволяло им в любой момент произвести подмену. А ещё мой проницательный друг обратил внимание на то, что одевались братья вызывающе по-разному: яркие пиджаки и галстуки разного цвета. А брюки, рубашки, носки и обувь одинаковая. В такой ситуации нужно несколько секунд, чтобы поменяться ролями.
Впрочем, Петрович не утверждал, что так оно и было, а только указал на такую возможность.
– А как Горгона Циклоповна на это отреагировала? – полюбопытствовал Петрович, вспоминая свою нелюбимую знакомую.
– Не знаю я никакой Горгоны, – резко ответил я. – А очень милая женщина Тамара Трофимовна, конечно, в шоке.
Петрович что-то хотел сказать, но передумал. А я не стал настаивать.