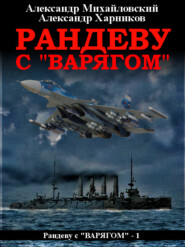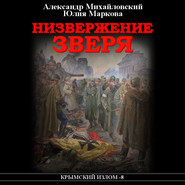По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Война за проливы. Призыв к походу
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С этими словами русский министр иностранных дел вытащил из своего портфеля модной формы «дипломат» карту с предполагаемыми исправлениями «несправедливостей» и подтолкнул ее в направлении болгарского премьер-министра.
– Если мы договоримся, – добавил он, – то это счастливое для Болгарии исправление границ будет связано в истории именно с вашим именем, не говоря уже о том, что именно в ваше премьерство Болгария освободится от последних остатков вассальной зависимости от Турции, превратившись в полностью самостоятельное государство.
После этих слов в Александре Малинове проснулся адвокат (коим он и был согласно своему образованию) – а эти люди не двинутся дальше, пока не уяснят для себя смысла всех сказанных прежде слов.
– Петр Николаевич, – спросил он, как бы равнодушно отведя взгляд в сторону от русского министра, – о чем мы с вами должны договориться?
– О том, господин Малинов, – с нажимом произнес Дурново, – каким образом при реализации этого плана будут обеспечены интересы Российской империи. Ведь тридцать лет назад несправедливость была допущена не только в отношении Болгарии, но и в отношении Российской империи, когда братская во всех смыслах для нас страна, обязанная нам самим своим существованием и жизнями своих сограждан, вдруг повернулась к нам спиной, если не сказать хуже, а ее политики стали произносить возмутительные речи, походя понося освободителей своей страны. Ведь не австрийские или германские солдаты форсировали Дунай, штурмовали Плевну, насмерть стояли вместе с болгарскими ополченцами на Шипке; так почему же болгарская политика послушно следует в фарватере заданном Берлином и Веной, игнорируя пожелания Санкт-Петербурга?
В задумчивости побарабанив пальцами по столу, Петр Дурново еще раз пристально взглянул в глаза своему собеседнику, который тут же отвел взгляд в сторону.
– Если такое случится еще раз, – добавил русский министр иностранных дел, – то его величество император Михаил Второй может очень сильно расстроиться. И я даже не знаю, что в этом случае может произойти, потому что такое двурушническое поведение будет истолковано им как личное оскорбление… В таких случаях государь становится вельми суров, и я не завидую тем, кто своим поведением вызвал неудовольствие нашего государя…
– Хорошо, Петр Николаевич… – со вздохом произнес болгарский премьер, – скажите – что вы, то есть ваш государь, хотите за то, чтобы описанное вами гипотетическое переустройство границ превратилось в реальность. В настоящий момент Болгария зажата в тисках между недружественными ей странами и чувствует себя стесненной во всех отношениях. Если бы не благожелательный настрой Австро-Венгрии, мы бы и вовсе оказались в полном окружении, ибо Российская империя оказалась не в состоянии полноценно поддерживать наше существование.
– А кто заставлял вашего князя ради ничтожного исправления границ устраивать никому не нужную войну с Сербией? – с горечью спросил русский министр. – Черт с ней, с Восточной Румелией, отторгнутой от Болгарии Берлинским конгрессом, и большая часть населения которой стремилась жить в болгарском государстве. Но с сербами зачем вам потребовалось воевать, тем более что все равно по итогам той дурацкой во всех смыслах войны границы между государствами не передвинулись и на пядь?
– Петр Николаевич, – вскинул голову болгарский премьер, – сербы на нас напали, а мы только защищались!
– Они напали на вас после того, как вы силой передвинули границу, под угрозой оружия выдворив сербских пограничников с их заставы, – с нажимом произнес Дурново. – Тут, на Балканах, где нравы у людей взрывоопасные как порох, такие действия непременно должны были закончиться плохо.
Немного помолчав, он добавил:
– Впрочем, нельзя не сказать и о том, что сербский король тоже был хорош, поэтому в будущем мы заранее должны обдумать все возможные варианты развития событий… Не думайте, что вы будете единственным моим собеседником; соответствующие лица в Афинах и Белграде также получат свои предложения, от которых им невозможно будет отказаться.
– Хорошо, Петр Николаевич, – кивнул Александр Малинов, – я вас понял. Вы предлагаете переустроить границы в пользу Болгарии и обещаете нам в этом свою помощь. Но скажите, что с такого переустройства получит Российская империя, раз хлопотать о нем к нам приехал целый министр иностранных дел, ни больше ни меньше?
– Российская империя, – ответил Дурново, – рассчитывает получить то, что тридцать лет назад не решились взять император Александр Второй Освободитель и его министр князь Горчаков. Я имею в виду Черноморские проливы вместе с Константинополем, которые еще тогда по праву победителя должны были перейти в собственность Российской империи. Еще мой император предполагает, что после задуманного им переустройства границ на Балканах у России тут будут только добрые друзья и никого более. Дальнейшие конфликты и междоусобные ссоры между дружественными балканскими государствами будет предотвращать Балканский союз в составе Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, все споры в котором будут решаться мирно путем переговоров при справедливом арбитраже моего императора.
– А Османская империя? – быстро спросил болгарский премьер, – какова будет ее роль в предполагаемой вами системе?
– Османской империи просто не будет, – резко ответил Дурново, – ни на Балканах, ни вообще; а то, что от нее останется, я с вами сейчас обсуждать не буду, потому что это никоим образом не входит в круг ваших интересов. Забудьте о том, что это государство вообще существовало, и давайте поговорим непосредственно о предполагаемом будущем Болгарии… Кстати, имейте в виду, что, в связи с вышесказанным, вассальная зависимость Болгарского княжества будет прекращена естественным путем, и вы сможете сразу переходить к провозглашению полной независимости.
– Хорошо, Петр Николаевич, – согласился Александр Малинов, – давайте поговорим о будущем моей страны… Только ведь премьер-министр – не самое удобное лицо для такого разговора. Сегодня я при власти и полномочиях (кстати, далеко не безграничных, как у вашего государя), а завтра – просто частное лицо, лидер оппозиции или вообще политический эмигрант, выпрашивающий на улицах Санкт-Петербурга корочки хлеба для пропитания себя и своей семьи. Не лучше ли на столь величественные темы разговаривать непосредственно с нашим князем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, который, конечно, подчиняется конституции, но при этом куда более самовластен, чем его дальний родственник британский король Эдуард Седьмой?
– Во-первых, господин Малинов, – ответил Дурново, – не могу представить вас выпрашивающим корочки хлеба. Вы же неплохой адвокат с дипломом Киевского университета; а в Петербурге столько разных судебных тяжб, что вы всегда сумеете найти хорошо оплачиваемую работу по своей первой специальности. Во-вторых – я, конечно, переговорю с вашим князем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, было бы неприлично приехать в Софию и не встретиться с болгарским монархом. Но поскольку у моего государя есть вполне обоснованные подозрения, что именно князь Фердинанд однажды станет причиной его внезапного огорчения, ни о чем подобном с ним разговаривать не буду. Официально темой моей беседы станет формирование Балканского Союза для совместного дипломатического давления на Турцию, и ничего более. Ни о какой возможной войне и изменении границ даже и речи не пойдет. Зато в надлежащий момент, о котором мы с вами уже говорили, когда от болгарского правительства потребуются самые решительные действия, с вашим князем от имени народа Болгарии побеседуете именно вы, господин Малинов. Скажу сразу, с его стороны нас вполне устроит добровольная абдикация (отречение) в пользу старшего сына Бориса и отъезд за пределы Болгарии с обещанием более никогда не вмешиваться в дела страны. Воспитателем юного князя Бориса и главой Регентского совета, который будет править Болгарией до достижения им возраста в двадцать один год, будет назначен человек, которого назовет мой император. Но можете не беспокоиться – вашей Тырновской конституции ничего не угрожает, и первым заместителем главы Регентского совета будет законно избранный премьер-министр Болгарии, то есть вы или ваш преемник на этом посту.
После этих слов в комнате наступило гробовое молчание. Петр Дурново сказал то, что должен был сказать, а Александр Малинов лихорадочно обдумывал ответ. Предложение, которое ему только что сделал русский министр иностранных дел, было экстраординарным. Сделай такое предложение кто-нибудь другой – например, один из болгарских политиков, – премьер-министр шарахнулся бы от него как от зачумленного. Но русский министр иностранных дел не может быть банальным полицейским провокатором и явно не подразумевал за своими словами никакого тайного смысла. Но каков шанс!? В одну роковую минуту, от которой зависит будущее Болгарии, сделаться вершителем судеб и делателем королей… Прославиться как премьер-министр, при котором территория Болгарии увеличилась почти вдвое, а турки, эти извечные насильники и губители болгарского народа, канули в небытие. Конечно же, он согласен, и, как самый популярный политик страны с немалыми организационными возможностями, вполне сможет провернуть предложенное дельце, собрав с него все положенные дивиденды. Но все же одна мысль продолжала скрестись в черепе болгарского премьера – точно кошка, которая просится, чтобы ее впустили в дом…
– Петр Николаевич, – наконец решившись, осторожно спросил он, – а как к отставке князя Фердинанда и последующему переустройству границ отнесется Австро-Венгрия и лично император Франц-Иосиф, который с крайне подозрительностью относится к малейшему усилению славянских государств? Не будет ли следование предложенному вами плану самоубийством для Болгарии и других государств, которым вы хотите предложить аналогичный план действий?
– Об этом вы можете не беспокоиться, – с легким пренебрежением ответил русский министр иностранных дел, слегка поморщившись, – в Вене к грядущему переустройству границ на Балканах отнесутся, конечно, без особого восторга, со всхлипываниями и стонами, но мой император заверяет, что ничего плохого ни вам, ни кому-нибудь еще из своих соседей император Франц Иосиф сделать уже не сумеет. Не задавайте никаких вопросов, просто примите мое утверждение на веру, потому что со мной государь тоже не поделился подробностями.
– Понятно, Петр Николаевич, – кивнул болгарский премьер, – а теперь позвольте мне откланяться, чтобы в тишине и покое обдумать сделанное вами предложение. Ответ я вам дам через сутки, явившись сюда лично.
– Идите, господин Малинов, – сказал Дурново, – и помните, что каждый человек сам является кузнецом своего счастья и несчастья. Впрочем, что я вас учу; все в ваших руках – дерзайте.
После того как болгарский премьер вышел, русский министр иностранных дел задумался. Вроде одно дело он сделал, и поручение его императорского величества выполнил в точности так, как тот просил. Ничего, никуда этот Александр Малинов не денется – прибежит завтра на задних лапках, виляя хвостиком, и принесет свое согласие в зубах. Вот в Афинах разговор наверняка будет гораздо сложнее. Греция в большей степени ориентирована на Европу, и для правительства в Афинах разгром Турции – это дело реванша за поражения в войне десятилетней давности, а не насущная необходимость. Государь говорит, что единственное, что может побудить греков присоединиться к создающемуся Балканскому союзу, это желание вскочить в отходящий поезд. А то как же. Дележка тушки убиенной Османской империи – и без греков? Ну ничего, и это тоже немало; а в качестве утешительного приза Афинам можно предложить населенную греками малоазийскую Смирну с окрестностями. Поди, от такого подарка они не откажутся.
22 февраля 1908 года. Полдень. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека.
Присутствуют:
Император Всероссийский Михаил II;
Министр труда действительный статский советник Владимир Ильич Ульянов;
Председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили
Главный редактор газеты «Правда» Ирина Владимировна Джугашвили-Андреева.
В конце зимы иногда бывают такие дни, когда хорошо отдохнувшее солнце вдруг почти по-весеннему начинает припекать с безоблачного неба, обещая соскучившимся по теплу людям скорый приход капели и звон весенних ручьев, хотя до настоящей весны остается еще не меньше месяца. Вот и сегодня так называемый «запах весны» проник даже сюда, в Готическую библиотеку, казалось бы, надежно отрезанную от суеты внешнего мира. Больше всего весеннее настроение было заметно по раскрасневшейся и похорошевшей Ирине Андреевой, ее внешне беспричинным улыбкам и ласковым взглядам, которые она бросала на своего мужа. Император Михаил отметил, что тут сразу видно счастливую пару, которая прожила вместе без малого четыре года, но не утратила новизну и остроту любовных ощущений. Впрочем, и ему с Мари тоже было грех жаловаться: хрупкая, как фарфоровая кукла, японка почитала своего мужа-императора за земное божество, а он был готов носить ее на руках.
Впрочем, тема беседы, ради которой император пригласил своих гостей, была достаточно далека от обсуждения приближающейся весны. То есть нечто похожее по настроению на близкий приход весны в воздухе Готической библиотеки ощущалось, но не в календарном, а в социально-политическом смысле. Проводимый самим императором процесс социальной революции сверху, поначалу почти незаметный, все больше набирал ход. И вот, казалось бы, настал тот момент, когда, согласно законам диалектики, количество обязано было перерасти в качество, а император Михаил должен был объявить о начале процесса построения социализма в отдельно взятой Российской империи. И все это – без Диктатуры Пролетариата, Власти Советов, Партии Нового Типа и Низвержения Самодержавия. Вообще-то это самое низвержение самодержавия большинством российских и иностранных социалистов и социал-демократов виделось обязательным условием построения истинно справедливого общества, но императору их мнение было безразлично. Мало ли чего там себе выдумали бородатые «основоположники», которые не только социализма никогда не строили, но и гвоздя в стенку забить не умели. Впрочем, как сказал (или еще скажет) товарищ Коба, марксизм – это не догма, а руководство к действию.
Впрочем, для того, чтобы разобраться с теорией в преддверии грядущих событий, император и позвал к себе главных борцов за построение справедливого общества и счастье трудящихся. Поприветствовав своих гостей и предложив им садиться, Михаил сразу взял быка за рога.
– Значит так, товарищи, – сказал он, – поскольку каждый солдат должен знать свой маневр, хочу поставить вас в известность о двух вещах. Первое – в самое ближайшее время Российской империи предстоит вступить в скоротечную войну, в которой Мы непременно планируем победить…
Вот тут каждый отреагировал по-своему. Супруга Кобы ойкнула, сам Коба непроизвольно выругался по-грузински, а господин Ульянов со всем возможным ядом в голосе осведомился – нельзя ли было, мол, обойтись без войны?
– Нельзя, – сурово ответил Михаил, – мы стреляем в нависшую над нашими головами лавину, чтобы она не успела набрать полной мощи и, сходя со склона, не погребла нас под собой, как случилось в прошлой истории. Изменение состава коалиций – это не панацея, а лишь способ временно отодвинуть угрозу подальше от наших границ. Ситуация на мировой арене такова, что вчера было рано, а завтра будет поздно. Экономический кризис, начавшийся в прошлом году в Североамериканских Соединенных Штатах и Европе, предоставляет нам уникальную возможность нанести окончательное поражение Турции и Австро-Венгрии в тот момент, когда Великобритания, Франция, Италия и Штаты ослаблены экономическим кризисом и, скорее всего, будут мешкать перед вступлением в войну. А у нас, как вы помните, благодаря мерам, предпринимаемым Нами для развития экономики и роста благосостояния населения, никаких экономических кризисов нет, и пока не предвидится… Один стремительный, почти бескровный для нас удар в стиле господина Бережного – и два наших заклятых врага остаются только на страницах учебников истории, после чего всем прочим придется хорошенько подумать, прежде чем навязывать нам продолжение банкета.
– Не это же подло и бесчестно, – возразил Ульянов-Ленин, – вы собираетесь воспользоваться слабостью ваших врагов в тот момент, когда они не могут ответить вам ничем равноценным. Ладно дикая Турция; но Австро-Венгрия… эта милая культурная страна, с Венской оперой, чистенькими пивными и вышколенными вежливыми полицейскими…
Владимир Ильич, видимо, собирался еще немного поразглагольствовать по поводу своих эмигрантских воспоминаний, но император Михаил довольно резко прервал его дозволенные речи.
– В конце концов, господин Ульянов, я Император Всероссийский, и в силу коронационной присяги и велений своей совести обязан печься исключительно о тех, кто является моими подданными. Что я и делаю, всеми силами пытаясь превратить большую империалистическую войну в серию скоротечных конфликтов, в которых погибнет на порядок меньше русских солдат, чем было в прошлый раз. Что касается вас, то вы являетесь министром труда Российской империи, и в ваши профессиональные обязанности входит забота исключительно о российских трудящихся, а не о подданных турецкого султана или австрийского императора. Вот когда они в результате нашей победы станут российскими подданными, тогда мы с вами и будем о них переживать, Мы по своей линии, а вы по своей… И я не Иисус Христос, чтобы пытаться объять своей заботой все человечество, да и вам тоже не стоит торопиться на Голгофу.
Ильич хотел было сказать еще что-нибудь такое нелицеприятное, но Коба вдруг веско сказал: «товарищ Михаил полностью прав!» – и вождь мирового пролетариата осекся на полувздохе. С недавних пор за молодым грузинским революционером стало наблюдаться что-то такое эдакое, отчего тушевались и смущались даже те люди, которые были старше его и по возрасту, и по положению.
– В русском народе, – как бы пояснил он свои слова, – говорят, что тот, кто слишком широко шагает, рискует порвать свои штаны в самом интересном месте. К великой цели требуется двигаться маленькими шагами. Российская империя при товарище Михаиле стала одним из самых социально ответственных государств, отчего австрийские и турецкие рабочие, перешедшие в российское подданство, ничего не потеряют, зато приобретут положенные им по закону социальные гарантии. Я, например, понимаю это именно так.
– Кхм, – сказал смущенный Ульянов, – действительно, товарищ Коба. Что-то я об этом не подумал. Но в таком случае надо признать, что чем сильнее будет развиваться капитализм, переходящий в свою высшую империалистическую фазу, чем чаще и сильнее его будут потрясать глобальные экономические кризисы, тем острее будут политические противоречия между отдельными империалистическими державами. И если экономические противоречия при империализме выливаются в мировые экономические кризисы, то политические противоречия, по закону перехода количества в качество, должны приводить к глобальным войнам, в которых за передел мира будут сражаться все имеющиеся в наличии империалистические державы…
– Все верно, товарищ Ульянов, – облегченно вздохнул император Михаил, – и именно об этом, только другими словами, нам уже четыре года талдычили товарищи из будущего. Не так ли, Ирина Владимировна?
– Именно так, товарищ Михаил, – подтвердила товарищ Джугашвили-Андреева, – когда в мире не осталось свободных территорий, которые можно было бы просто застолбить, а колониальные войны становятся все менее результативными, тогда наступает время глобальных конфликтов, когда бои идут уже не в далеких колониях, а прямо посреди старушки Европы. Победитель получает все – говорили те, кто развязал эту бойню. Но еще никто не догадывается, что победителей в этом всемирном Армагеддоне не будет. Точнее, этот победитель не входил в число предвоенных фаворитов, потому что о его существовании до самого последнего момента ничего не было известно… Если вы, Владимир Ильич, не поняли, то я имею в виду созданное вами на руинах Российской империи в нашем варианте истории первое в мире государство рабочих и крестьян. И еще одна поправка. Когда наступает время мировой воны, то в схватке за существование сходятся не только империалистические, но и социалистические державы. Империализм бывает не только капиталистический, но и социалистический, иначе бы единственное социалистическое государство не продержалось бы среди капиталистических хищников целых семьдесят лет. Можете записать эту мысль в свой Катехизис. Когда решается, кто выживет, а кто станет кормом для победителя, не особенно-то смотрят на политическую ориентацию. Бывшие смертельные враги встают под общие знамена, а вчерашние союзники атакуют друг друга со смертоносной яростью. Поэтому товарищ Михаил совершенно прав, когда старается застать врага в неготовом к войне состоянии, чтобы разгромить его с минимальными потерями для своей армии…
– Кстати, – неожиданно сказал император, – о капиталистических и социалистических империях. Сразу после победы над Турцией и Австро-Венгрией будет объявлено о завершении переходного периода и начале строительства в России просвещенного социализма с монархическим лицом. Я уже примерно знаю, что надо делать и как избежать большинства самых грубых ошибок, которые за время своего правления допустили присутствующие здесь Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович.
– Так-так! – сказал Ильич, «фирменным» жестом закладывая большие пальцы за проймы жилета и наклоняясь к собеседнику. – А вот с этого момента, товарищ Михаил, пожалуйста, поподробнее. В чем именно будет выражаться этот ваш монархический социализм и чем он будет отличаться от социализма, так сказать, классического типа? А также, пожалуйста, изложите, какие ошибки, по вашему мнению, должны будут совершить в будущем присутствующие тут ваш покорный слуга и товарищ Коба?
– Давайте начнем с того, – сказал император, – что мы не можем отбросить тысячелетнюю государственную традицию, сжечь свой дом в огне мировой революции, и лишь потом на заваленном трупами пепелище начать строить новое справедливое общество. Это совершенно исключено; а с теми, кто мечтает о таком, будет разбираться ведомство Александра Васильевича Тамбовцева. Каждая Империя только тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защитить.
– Ну, товарищ Михаил, – немного разочарованно протянул Ильич, – об этой части вашей программы мы догадывались и так. Ведь безумием бы было предполагать, что вы сейчас схватите факел и кинетесь поджигать свой Зимний дворец. Нам хотелось бы знать, каким образом вы собираетесь сочетать отжившую свое форму монархического правления, при которой неизбежно существование классов угнетателей и угнетенных, с принципами всеобщей социальной справедливости, для претворения в жизнь которой необходимо создать бесклассовое общество равных возможностей?
– Во-первых, товарищ Ульянов, бесклассовое общество – это миф, – ответил император, – и при развитом социализме, о котором нам рассказывали товарищи из будущего, были угнетенные классы рабочих и крестьян, прослойка в виде интеллигенции и угнетатели, в лице которых выступала партийно-государственная бюрократия. Если кто-то отчуждает продукты чужого труда, не производя при этом никаких полезных действий, то этот человек должен считаться угнетателем, невзирая на прочие обстоятельства. Да, Мы признаем, что норма эксплуатации трудящихся при так называемом развитом социализме была в разы меньше, чем при развитом капитализме, но это преимущество нивелировалось общей стагнацией экономики, дефицитом товарной массы и снижением качества предоставляемых государством услуг.
– Если мы договоримся, – добавил он, – то это счастливое для Болгарии исправление границ будет связано в истории именно с вашим именем, не говоря уже о том, что именно в ваше премьерство Болгария освободится от последних остатков вассальной зависимости от Турции, превратившись в полностью самостоятельное государство.
После этих слов в Александре Малинове проснулся адвокат (коим он и был согласно своему образованию) – а эти люди не двинутся дальше, пока не уяснят для себя смысла всех сказанных прежде слов.
– Петр Николаевич, – спросил он, как бы равнодушно отведя взгляд в сторону от русского министра, – о чем мы с вами должны договориться?
– О том, господин Малинов, – с нажимом произнес Дурново, – каким образом при реализации этого плана будут обеспечены интересы Российской империи. Ведь тридцать лет назад несправедливость была допущена не только в отношении Болгарии, но и в отношении Российской империи, когда братская во всех смыслах для нас страна, обязанная нам самим своим существованием и жизнями своих сограждан, вдруг повернулась к нам спиной, если не сказать хуже, а ее политики стали произносить возмутительные речи, походя понося освободителей своей страны. Ведь не австрийские или германские солдаты форсировали Дунай, штурмовали Плевну, насмерть стояли вместе с болгарскими ополченцами на Шипке; так почему же болгарская политика послушно следует в фарватере заданном Берлином и Веной, игнорируя пожелания Санкт-Петербурга?
В задумчивости побарабанив пальцами по столу, Петр Дурново еще раз пристально взглянул в глаза своему собеседнику, который тут же отвел взгляд в сторону.
– Если такое случится еще раз, – добавил русский министр иностранных дел, – то его величество император Михаил Второй может очень сильно расстроиться. И я даже не знаю, что в этом случае может произойти, потому что такое двурушническое поведение будет истолковано им как личное оскорбление… В таких случаях государь становится вельми суров, и я не завидую тем, кто своим поведением вызвал неудовольствие нашего государя…
– Хорошо, Петр Николаевич… – со вздохом произнес болгарский премьер, – скажите – что вы, то есть ваш государь, хотите за то, чтобы описанное вами гипотетическое переустройство границ превратилось в реальность. В настоящий момент Болгария зажата в тисках между недружественными ей странами и чувствует себя стесненной во всех отношениях. Если бы не благожелательный настрой Австро-Венгрии, мы бы и вовсе оказались в полном окружении, ибо Российская империя оказалась не в состоянии полноценно поддерживать наше существование.
– А кто заставлял вашего князя ради ничтожного исправления границ устраивать никому не нужную войну с Сербией? – с горечью спросил русский министр. – Черт с ней, с Восточной Румелией, отторгнутой от Болгарии Берлинским конгрессом, и большая часть населения которой стремилась жить в болгарском государстве. Но с сербами зачем вам потребовалось воевать, тем более что все равно по итогам той дурацкой во всех смыслах войны границы между государствами не передвинулись и на пядь?
– Петр Николаевич, – вскинул голову болгарский премьер, – сербы на нас напали, а мы только защищались!
– Они напали на вас после того, как вы силой передвинули границу, под угрозой оружия выдворив сербских пограничников с их заставы, – с нажимом произнес Дурново. – Тут, на Балканах, где нравы у людей взрывоопасные как порох, такие действия непременно должны были закончиться плохо.
Немного помолчав, он добавил:
– Впрочем, нельзя не сказать и о том, что сербский король тоже был хорош, поэтому в будущем мы заранее должны обдумать все возможные варианты развития событий… Не думайте, что вы будете единственным моим собеседником; соответствующие лица в Афинах и Белграде также получат свои предложения, от которых им невозможно будет отказаться.
– Хорошо, Петр Николаевич, – кивнул Александр Малинов, – я вас понял. Вы предлагаете переустроить границы в пользу Болгарии и обещаете нам в этом свою помощь. Но скажите, что с такого переустройства получит Российская империя, раз хлопотать о нем к нам приехал целый министр иностранных дел, ни больше ни меньше?
– Российская империя, – ответил Дурново, – рассчитывает получить то, что тридцать лет назад не решились взять император Александр Второй Освободитель и его министр князь Горчаков. Я имею в виду Черноморские проливы вместе с Константинополем, которые еще тогда по праву победителя должны были перейти в собственность Российской империи. Еще мой император предполагает, что после задуманного им переустройства границ на Балканах у России тут будут только добрые друзья и никого более. Дальнейшие конфликты и междоусобные ссоры между дружественными балканскими государствами будет предотвращать Балканский союз в составе Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, все споры в котором будут решаться мирно путем переговоров при справедливом арбитраже моего императора.
– А Османская империя? – быстро спросил болгарский премьер, – какова будет ее роль в предполагаемой вами системе?
– Османской империи просто не будет, – резко ответил Дурново, – ни на Балканах, ни вообще; а то, что от нее останется, я с вами сейчас обсуждать не буду, потому что это никоим образом не входит в круг ваших интересов. Забудьте о том, что это государство вообще существовало, и давайте поговорим непосредственно о предполагаемом будущем Болгарии… Кстати, имейте в виду, что, в связи с вышесказанным, вассальная зависимость Болгарского княжества будет прекращена естественным путем, и вы сможете сразу переходить к провозглашению полной независимости.
– Хорошо, Петр Николаевич, – согласился Александр Малинов, – давайте поговорим о будущем моей страны… Только ведь премьер-министр – не самое удобное лицо для такого разговора. Сегодня я при власти и полномочиях (кстати, далеко не безграничных, как у вашего государя), а завтра – просто частное лицо, лидер оппозиции или вообще политический эмигрант, выпрашивающий на улицах Санкт-Петербурга корочки хлеба для пропитания себя и своей семьи. Не лучше ли на столь величественные темы разговаривать непосредственно с нашим князем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, который, конечно, подчиняется конституции, но при этом куда более самовластен, чем его дальний родственник британский король Эдуард Седьмой?
– Во-первых, господин Малинов, – ответил Дурново, – не могу представить вас выпрашивающим корочки хлеба. Вы же неплохой адвокат с дипломом Киевского университета; а в Петербурге столько разных судебных тяжб, что вы всегда сумеете найти хорошо оплачиваемую работу по своей первой специальности. Во-вторых – я, конечно, переговорю с вашим князем Фердинандом Саксен-Кобург-Готским, было бы неприлично приехать в Софию и не встретиться с болгарским монархом. Но поскольку у моего государя есть вполне обоснованные подозрения, что именно князь Фердинанд однажды станет причиной его внезапного огорчения, ни о чем подобном с ним разговаривать не буду. Официально темой моей беседы станет формирование Балканского Союза для совместного дипломатического давления на Турцию, и ничего более. Ни о какой возможной войне и изменении границ даже и речи не пойдет. Зато в надлежащий момент, о котором мы с вами уже говорили, когда от болгарского правительства потребуются самые решительные действия, с вашим князем от имени народа Болгарии побеседуете именно вы, господин Малинов. Скажу сразу, с его стороны нас вполне устроит добровольная абдикация (отречение) в пользу старшего сына Бориса и отъезд за пределы Болгарии с обещанием более никогда не вмешиваться в дела страны. Воспитателем юного князя Бориса и главой Регентского совета, который будет править Болгарией до достижения им возраста в двадцать один год, будет назначен человек, которого назовет мой император. Но можете не беспокоиться – вашей Тырновской конституции ничего не угрожает, и первым заместителем главы Регентского совета будет законно избранный премьер-министр Болгарии, то есть вы или ваш преемник на этом посту.
После этих слов в комнате наступило гробовое молчание. Петр Дурново сказал то, что должен был сказать, а Александр Малинов лихорадочно обдумывал ответ. Предложение, которое ему только что сделал русский министр иностранных дел, было экстраординарным. Сделай такое предложение кто-нибудь другой – например, один из болгарских политиков, – премьер-министр шарахнулся бы от него как от зачумленного. Но русский министр иностранных дел не может быть банальным полицейским провокатором и явно не подразумевал за своими словами никакого тайного смысла. Но каков шанс!? В одну роковую минуту, от которой зависит будущее Болгарии, сделаться вершителем судеб и делателем королей… Прославиться как премьер-министр, при котором территория Болгарии увеличилась почти вдвое, а турки, эти извечные насильники и губители болгарского народа, канули в небытие. Конечно же, он согласен, и, как самый популярный политик страны с немалыми организационными возможностями, вполне сможет провернуть предложенное дельце, собрав с него все положенные дивиденды. Но все же одна мысль продолжала скрестись в черепе болгарского премьера – точно кошка, которая просится, чтобы ее впустили в дом…
– Петр Николаевич, – наконец решившись, осторожно спросил он, – а как к отставке князя Фердинанда и последующему переустройству границ отнесется Австро-Венгрия и лично император Франц-Иосиф, который с крайне подозрительностью относится к малейшему усилению славянских государств? Не будет ли следование предложенному вами плану самоубийством для Болгарии и других государств, которым вы хотите предложить аналогичный план действий?
– Об этом вы можете не беспокоиться, – с легким пренебрежением ответил русский министр иностранных дел, слегка поморщившись, – в Вене к грядущему переустройству границ на Балканах отнесутся, конечно, без особого восторга, со всхлипываниями и стонами, но мой император заверяет, что ничего плохого ни вам, ни кому-нибудь еще из своих соседей император Франц Иосиф сделать уже не сумеет. Не задавайте никаких вопросов, просто примите мое утверждение на веру, потому что со мной государь тоже не поделился подробностями.
– Понятно, Петр Николаевич, – кивнул болгарский премьер, – а теперь позвольте мне откланяться, чтобы в тишине и покое обдумать сделанное вами предложение. Ответ я вам дам через сутки, явившись сюда лично.
– Идите, господин Малинов, – сказал Дурново, – и помните, что каждый человек сам является кузнецом своего счастья и несчастья. Впрочем, что я вас учу; все в ваших руках – дерзайте.
После того как болгарский премьер вышел, русский министр иностранных дел задумался. Вроде одно дело он сделал, и поручение его императорского величества выполнил в точности так, как тот просил. Ничего, никуда этот Александр Малинов не денется – прибежит завтра на задних лапках, виляя хвостиком, и принесет свое согласие в зубах. Вот в Афинах разговор наверняка будет гораздо сложнее. Греция в большей степени ориентирована на Европу, и для правительства в Афинах разгром Турции – это дело реванша за поражения в войне десятилетней давности, а не насущная необходимость. Государь говорит, что единственное, что может побудить греков присоединиться к создающемуся Балканскому союзу, это желание вскочить в отходящий поезд. А то как же. Дележка тушки убиенной Османской империи – и без греков? Ну ничего, и это тоже немало; а в качестве утешительного приза Афинам можно предложить населенную греками малоазийскую Смирну с окрестностями. Поди, от такого подарка они не откажутся.
22 февраля 1908 года. Полдень. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека.
Присутствуют:
Император Всероссийский Михаил II;
Министр труда действительный статский советник Владимир Ильич Ульянов;
Председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили
Главный редактор газеты «Правда» Ирина Владимировна Джугашвили-Андреева.
В конце зимы иногда бывают такие дни, когда хорошо отдохнувшее солнце вдруг почти по-весеннему начинает припекать с безоблачного неба, обещая соскучившимся по теплу людям скорый приход капели и звон весенних ручьев, хотя до настоящей весны остается еще не меньше месяца. Вот и сегодня так называемый «запах весны» проник даже сюда, в Готическую библиотеку, казалось бы, надежно отрезанную от суеты внешнего мира. Больше всего весеннее настроение было заметно по раскрасневшейся и похорошевшей Ирине Андреевой, ее внешне беспричинным улыбкам и ласковым взглядам, которые она бросала на своего мужа. Император Михаил отметил, что тут сразу видно счастливую пару, которая прожила вместе без малого четыре года, но не утратила новизну и остроту любовных ощущений. Впрочем, и ему с Мари тоже было грех жаловаться: хрупкая, как фарфоровая кукла, японка почитала своего мужа-императора за земное божество, а он был готов носить ее на руках.
Впрочем, тема беседы, ради которой император пригласил своих гостей, была достаточно далека от обсуждения приближающейся весны. То есть нечто похожее по настроению на близкий приход весны в воздухе Готической библиотеки ощущалось, но не в календарном, а в социально-политическом смысле. Проводимый самим императором процесс социальной революции сверху, поначалу почти незаметный, все больше набирал ход. И вот, казалось бы, настал тот момент, когда, согласно законам диалектики, количество обязано было перерасти в качество, а император Михаил должен был объявить о начале процесса построения социализма в отдельно взятой Российской империи. И все это – без Диктатуры Пролетариата, Власти Советов, Партии Нового Типа и Низвержения Самодержавия. Вообще-то это самое низвержение самодержавия большинством российских и иностранных социалистов и социал-демократов виделось обязательным условием построения истинно справедливого общества, но императору их мнение было безразлично. Мало ли чего там себе выдумали бородатые «основоположники», которые не только социализма никогда не строили, но и гвоздя в стенку забить не умели. Впрочем, как сказал (или еще скажет) товарищ Коба, марксизм – это не догма, а руководство к действию.
Впрочем, для того, чтобы разобраться с теорией в преддверии грядущих событий, император и позвал к себе главных борцов за построение справедливого общества и счастье трудящихся. Поприветствовав своих гостей и предложив им садиться, Михаил сразу взял быка за рога.
– Значит так, товарищи, – сказал он, – поскольку каждый солдат должен знать свой маневр, хочу поставить вас в известность о двух вещах. Первое – в самое ближайшее время Российской империи предстоит вступить в скоротечную войну, в которой Мы непременно планируем победить…
Вот тут каждый отреагировал по-своему. Супруга Кобы ойкнула, сам Коба непроизвольно выругался по-грузински, а господин Ульянов со всем возможным ядом в голосе осведомился – нельзя ли было, мол, обойтись без войны?
– Нельзя, – сурово ответил Михаил, – мы стреляем в нависшую над нашими головами лавину, чтобы она не успела набрать полной мощи и, сходя со склона, не погребла нас под собой, как случилось в прошлой истории. Изменение состава коалиций – это не панацея, а лишь способ временно отодвинуть угрозу подальше от наших границ. Ситуация на мировой арене такова, что вчера было рано, а завтра будет поздно. Экономический кризис, начавшийся в прошлом году в Североамериканских Соединенных Штатах и Европе, предоставляет нам уникальную возможность нанести окончательное поражение Турции и Австро-Венгрии в тот момент, когда Великобритания, Франция, Италия и Штаты ослаблены экономическим кризисом и, скорее всего, будут мешкать перед вступлением в войну. А у нас, как вы помните, благодаря мерам, предпринимаемым Нами для развития экономики и роста благосостояния населения, никаких экономических кризисов нет, и пока не предвидится… Один стремительный, почти бескровный для нас удар в стиле господина Бережного – и два наших заклятых врага остаются только на страницах учебников истории, после чего всем прочим придется хорошенько подумать, прежде чем навязывать нам продолжение банкета.
– Не это же подло и бесчестно, – возразил Ульянов-Ленин, – вы собираетесь воспользоваться слабостью ваших врагов в тот момент, когда они не могут ответить вам ничем равноценным. Ладно дикая Турция; но Австро-Венгрия… эта милая культурная страна, с Венской оперой, чистенькими пивными и вышколенными вежливыми полицейскими…
Владимир Ильич, видимо, собирался еще немного поразглагольствовать по поводу своих эмигрантских воспоминаний, но император Михаил довольно резко прервал его дозволенные речи.
– В конце концов, господин Ульянов, я Император Всероссийский, и в силу коронационной присяги и велений своей совести обязан печься исключительно о тех, кто является моими подданными. Что я и делаю, всеми силами пытаясь превратить большую империалистическую войну в серию скоротечных конфликтов, в которых погибнет на порядок меньше русских солдат, чем было в прошлый раз. Что касается вас, то вы являетесь министром труда Российской империи, и в ваши профессиональные обязанности входит забота исключительно о российских трудящихся, а не о подданных турецкого султана или австрийского императора. Вот когда они в результате нашей победы станут российскими подданными, тогда мы с вами и будем о них переживать, Мы по своей линии, а вы по своей… И я не Иисус Христос, чтобы пытаться объять своей заботой все человечество, да и вам тоже не стоит торопиться на Голгофу.
Ильич хотел было сказать еще что-нибудь такое нелицеприятное, но Коба вдруг веско сказал: «товарищ Михаил полностью прав!» – и вождь мирового пролетариата осекся на полувздохе. С недавних пор за молодым грузинским революционером стало наблюдаться что-то такое эдакое, отчего тушевались и смущались даже те люди, которые были старше его и по возрасту, и по положению.
– В русском народе, – как бы пояснил он свои слова, – говорят, что тот, кто слишком широко шагает, рискует порвать свои штаны в самом интересном месте. К великой цели требуется двигаться маленькими шагами. Российская империя при товарище Михаиле стала одним из самых социально ответственных государств, отчего австрийские и турецкие рабочие, перешедшие в российское подданство, ничего не потеряют, зато приобретут положенные им по закону социальные гарантии. Я, например, понимаю это именно так.
– Кхм, – сказал смущенный Ульянов, – действительно, товарищ Коба. Что-то я об этом не подумал. Но в таком случае надо признать, что чем сильнее будет развиваться капитализм, переходящий в свою высшую империалистическую фазу, чем чаще и сильнее его будут потрясать глобальные экономические кризисы, тем острее будут политические противоречия между отдельными империалистическими державами. И если экономические противоречия при империализме выливаются в мировые экономические кризисы, то политические противоречия, по закону перехода количества в качество, должны приводить к глобальным войнам, в которых за передел мира будут сражаться все имеющиеся в наличии империалистические державы…
– Все верно, товарищ Ульянов, – облегченно вздохнул император Михаил, – и именно об этом, только другими словами, нам уже четыре года талдычили товарищи из будущего. Не так ли, Ирина Владимировна?
– Именно так, товарищ Михаил, – подтвердила товарищ Джугашвили-Андреева, – когда в мире не осталось свободных территорий, которые можно было бы просто застолбить, а колониальные войны становятся все менее результативными, тогда наступает время глобальных конфликтов, когда бои идут уже не в далеких колониях, а прямо посреди старушки Европы. Победитель получает все – говорили те, кто развязал эту бойню. Но еще никто не догадывается, что победителей в этом всемирном Армагеддоне не будет. Точнее, этот победитель не входил в число предвоенных фаворитов, потому что о его существовании до самого последнего момента ничего не было известно… Если вы, Владимир Ильич, не поняли, то я имею в виду созданное вами на руинах Российской империи в нашем варианте истории первое в мире государство рабочих и крестьян. И еще одна поправка. Когда наступает время мировой воны, то в схватке за существование сходятся не только империалистические, но и социалистические державы. Империализм бывает не только капиталистический, но и социалистический, иначе бы единственное социалистическое государство не продержалось бы среди капиталистических хищников целых семьдесят лет. Можете записать эту мысль в свой Катехизис. Когда решается, кто выживет, а кто станет кормом для победителя, не особенно-то смотрят на политическую ориентацию. Бывшие смертельные враги встают под общие знамена, а вчерашние союзники атакуют друг друга со смертоносной яростью. Поэтому товарищ Михаил совершенно прав, когда старается застать врага в неготовом к войне состоянии, чтобы разгромить его с минимальными потерями для своей армии…
– Кстати, – неожиданно сказал император, – о капиталистических и социалистических империях. Сразу после победы над Турцией и Австро-Венгрией будет объявлено о завершении переходного периода и начале строительства в России просвещенного социализма с монархическим лицом. Я уже примерно знаю, что надо делать и как избежать большинства самых грубых ошибок, которые за время своего правления допустили присутствующие здесь Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович.
– Так-так! – сказал Ильич, «фирменным» жестом закладывая большие пальцы за проймы жилета и наклоняясь к собеседнику. – А вот с этого момента, товарищ Михаил, пожалуйста, поподробнее. В чем именно будет выражаться этот ваш монархический социализм и чем он будет отличаться от социализма, так сказать, классического типа? А также, пожалуйста, изложите, какие ошибки, по вашему мнению, должны будут совершить в будущем присутствующие тут ваш покорный слуга и товарищ Коба?
– Давайте начнем с того, – сказал император, – что мы не можем отбросить тысячелетнюю государственную традицию, сжечь свой дом в огне мировой революции, и лишь потом на заваленном трупами пепелище начать строить новое справедливое общество. Это совершенно исключено; а с теми, кто мечтает о таком, будет разбираться ведомство Александра Васильевича Тамбовцева. Каждая Империя только тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защитить.
– Ну, товарищ Михаил, – немного разочарованно протянул Ильич, – об этой части вашей программы мы догадывались и так. Ведь безумием бы было предполагать, что вы сейчас схватите факел и кинетесь поджигать свой Зимний дворец. Нам хотелось бы знать, каким образом вы собираетесь сочетать отжившую свое форму монархического правления, при которой неизбежно существование классов угнетателей и угнетенных, с принципами всеобщей социальной справедливости, для претворения в жизнь которой необходимо создать бесклассовое общество равных возможностей?
– Во-первых, товарищ Ульянов, бесклассовое общество – это миф, – ответил император, – и при развитом социализме, о котором нам рассказывали товарищи из будущего, были угнетенные классы рабочих и крестьян, прослойка в виде интеллигенции и угнетатели, в лице которых выступала партийно-государственная бюрократия. Если кто-то отчуждает продукты чужого труда, не производя при этом никаких полезных действий, то этот человек должен считаться угнетателем, невзирая на прочие обстоятельства. Да, Мы признаем, что норма эксплуатации трудящихся при так называемом развитом социализме была в разы меньше, чем при развитом капитализме, но это преимущество нивелировалось общей стагнацией экономики, дефицитом товарной массы и снижением качества предоставляемых государством услуг.