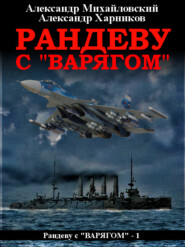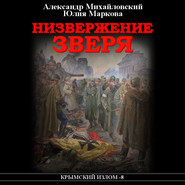По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великий князь Цусимский
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Удивительные у Ольги глаза. По ним сразу видно, грустит она или радуется, беспокоится или находится в состоянии безмятежности. Кроме того, в их глубине мерцает отблеск ее внутреннего мира, и видно, что мир этот весьма богат. Ну как же – художница, музыкантша. Тонкая, искренняя душа… Но при этом достаточно сильная натура – и это хорошо ощущается, когда она сидит рядом. Сила ее в том, чтобы преодолевать жизненные обстоятельства в том, что возможно преодолеть, и в то же время уметь смиряться с неизбежным, а также меняться навстречу новому, и при этом сохранять нетронутой свою внутреннюю суть… Удивительная женщина!
Сейчас мы находимся у меня каюте, куда я привела Ольгу для того, чтобы переговорить «между нами, девочками». Грустная, или, скорее, задумчивая, она стояла на палубе, когда после обеда я проходила мимо. Что-то мелькнуло в ее глазах – словно немая просьба выслушать безмолвный крик ее души. Но вслух она не решилась сказать мне ни слова, только кивнула с легкой застенчивой улыбкой…
И я, естественно, не смогла оставить ее стоять там в одиночестве и дальше, хотя и собиралась заняться своими делами на берегу. Ничего, дела подождут, они и так крутятся как хорошо смазанная и отлаженная машина. Вместо того я по-простому предложила Ольге попить чаю в моей каюте. Ну, это просто мы так говорим: «попить чаю», на самом деле при подобных обстоятельствах это подразумевает предложение пообщаться по душам. И пьют при этом не только чай или совсем даже не чай. Но как бы то ни было, Ольга с радостью приняла мое предложение – видимо, то что она хотела выплеснуть наружу, уже давно жгло ей язык.
Сложив руки на коленях и чуть свесив голову набок, она несколько отстраненно наблюдала, как я завариваю чай, насыпаю в вазочку конфеты с печеньем. Взор ее был чуть затуманен. Ну да, причина грусти понятна – ведь Новиков уехал на войну… Надеюсь, им удалось попрощаться как следует – ну, то есть, поговорить наедине о совместных перспективах… Тьфу, пришлось мне себя одернуть, – не о перспективах, а о любви! Ведь любовь главное – там, где есть она, там есть и перспективы. Что ж я так выражаюсь-то (хоть и мысленно), словно боюсь назвать вещи своими именами? Нет, так не пойдет, нужно полностью открыть свое сердце навстречу другому. Ведь сейчас, возможно, Ольга станет изливать мне свою душу… Очень вероятно, что она даже решит пооткровенничать со мной.
Однако начинает Ольга с дежурных любезностей. Отпив глоток, хвалит мой чай. Вижу, что не знает, как перейти к главному. Может быть, даже считает, что это не совсем прилично – открыться постороннему человеку. Правда, смею надеяться, что меня она все же не считает совсем уж посторонней. Но тем не менее, наверное, ей надо помочь.
– Ольга… – говорю я, внимательно глядя на нее, – расскажи, что беспокоит тебя. Я же вижу, что тебе хочется о чем-то поговорить. Ты не смущайся, пожалуйста. Это нормально, когда две женщины делятся друг с другом чем-то таким… сокровенным. В нашем мире, знаешь, это обыкновенное явление. Ну, правда, чаще всего не за чаем подруги это делают, а за бутылочкой чего покрепче… – Ольга удивленно заморгала, а я продолжила свою мысль: – Ну да, бокал хорошего вина, а еще лучше рюмка коньяка, часто помогает излить то, что на душе накопилось…
Я замолчала, потому что мне показалось, что она хочет что-то сказать. Ее губы приоткрылись, она в нерешительности провела рукой по подбородку и затем робко произнесла:
– Правда?
– Ну да, – подтвердила я, – правда. Хороший алкоголь, от которого потом не болит голова – это просто идеальный адаптоген.
– А… если мы… ну… – Она не договорила, но я, конечно же, сразу поняла ее.
– Конечно же, мы тоже можем! – воскликнула я с улыбкой. – Почему бы и нет? У меня там, кажется, было кое-что…
Я подошла к секретеру и достала маленькую дамскую бутылочку местного «Хеннеси», доставшуюся нам в трофеи вместе с пароходом, а заодно и пару коньячных стаканов. Разливая коньяк по стаканам, я украдкой наблюдала за Ольгой и видела, что она не сводит глаз с моей руки. Кажется, все эта процедура уже начинала благотворно действовать на ее психику. Я, честно сказать, не могла знать, как Ольга относится к алкоголю. Однако, поразмыслив, пришла к выводу, что наверняка ей доводилось пробовать разные вина или что-нибудь другое, и уж бокал хорошего коньяка никак не навредит, а лишь поможет преодолеть некий барьер в нашем общении. До этого мы, по сути, были лишь приятельницами… Но, может быть, после сегодняшнего нам удастся стать подругами? Мне бы этого хотелось. В ТОМ мире у меня не было близких подруг, но сейчас Ольга вполне могла бы стать таковой… Впрочем, не знаю, как получится. Но мне кажется, в сердце каждого человека живет тоска по настоящему другу, которому можно доверить свои тайны и поделиться беспокойствами… Как в этом мире расценивают женскую дружбу, мне было неизвестно. Почему-то мне казалось (на основании когда-то прочитанного), что это был довольно чопорный период. И едва ли дамы откровенничали между собой так, как они делают это в нашем времени.
Тут мне в голову пришла мысль, что я даже толком не знаю, с чем вообще У НИХ принято пить коньяк. У нас-то мы использовали для этих целей шоколадку (вон, разломанная на кусочки, лежит на блюдечке). Ага, есть и лимон! Вот и славно – закуска имеется. Но все равно я беспокоилась, что этого недостаточно – не хотелось бы опростоволоситься перед Ольгой…
– Вот, Ольга, закусывайте лимончиком или шоколадкой… – сказала я, – к сожалению, больше ничего предложить не могу.
– Ничего, Дарья, – с улыбкой ответила Ольга, – не беспокойтесь, пожалуйста. Представьте, что вы там, у себя, в вашем мире… Там ведь у вас все просто, не так ли?
– Ну да, все верно, – согласилась я и подняла свой стакан. Она сделала то же самое. Что ж, представить, что я в своем мире, мне не составляло труда. Для этого мне было достаточно одного – не напоминать себе постоянно, что я в 1904 году и передо мной – сама Великая Княгиня, будущая императрица. – Давай, Ольга, выпьем за мужчин! За тех, без кого немыслима наша жизнь. За наших защитников и вершителей истории. За честных, благородных, отважных! Пусть им всегда сопутствует удача и ведет по жизни счастливая звезда! А мы будем любить их, и ждать, и верить им, и дарить им радость… За мужчин – за наших мужчин! – И я выпила свой коньяк, закусив лимоном. Крепкий, зараза! Но весьма, как говорится, недурен… Местный как-никак.
Она тоже выпила свою рюмку. Там было-то грамм пятьдесят. Совершенно спокойно, лишь на секунду зажмурилась. Что меня удивило – она не взяла ни шоколадку, ни лимон. Правильно истолковав мой несколько недоумевающий взгляд, она сказала:
– Знаете, Дарья, обычай закусывать коньяк лимоном пошел от моего брата… да-да, от Николая. Любопытно, что и через сто лет он сохранился… – Она улыбнулась. Ее щеки слегка разрумянились, а в глазах стало еще больше блеска, словно там зажгли дополнительные светильники. Чуть помолчав, она добавила: – А вообще-то коньяк не принято закусывать. И я никогда этого не делаю… Хотя в остальном особых правил не придерживаюсь.
– Правда? Надо же… Буду знать. Признаться, ты меня удивила, – ответила я. И только тут поняла, что обращаюсь к ней на «ты», причем с самого начала. Причем меня это абсолютно не смущало, впрочем, ее тоже.
– Дарья… – произнесла Ольга. Ее лицо стало чуть более сосредоточенным, – ты так хорошо сказала про мужчин… И я вдруг подумала, что есть настоящие мужчины, а есть… ну, просто подобие. – Она помолчала, и молчание это было каким-то взволнованным. Коньяк произвел нужный эффект. Между нами, девочками, наступил момент откровенности… – Вот мой муж… он… Ах ну да, вы же знаете… – Она опустила голову, покусывая губы. Затем взглянула прямо мне в глаза и сказала: – Собственно, вы знаете обо мне все. Но в то же время многое укрыто от вас – то, о чем не написано нигде, в чем и сама я никогда не признавалась… Не то что не признавалась, а просто не считала нужным об этом кому-либо рассказывать. Это – вещи не во всеуслышание, это то, что живет глубоко в душе, это скрытые эмоции, невыраженные чувства, подавленные желания… Я хочу вам все рассказать, Дарья. Вы ведь выслушаете меня? Это будет просто этакий душевный выплеск… Вы ведь не осудите меня за это и сохраните все в тайне, правда?
– Конечно, Ольга! – заверила я. – Ты можешь полностью мне доверять, и можешь и поплакать, и пожаловаться. Это нормально! Так и должно быть. Я выслушаю и не осужу. Человек не может держать в себе переживания запертыми на замок; если он не может никому довериться, он когда-нибудь взорвется… Не в буквальном смысле, конечно.
– Спасибо… Я чувствовала, что вы поймете меня… – тихо пробормотала она и стала говорить: – Я честно пыталась полюбить своего мужа. Старалась найти в нем хорошее; и, знаете, находила. О плотской стороне жизни я тогда мало что знала. Ну, если по правде, то вообще ничего не знала… На ночь он целовал меня в щеку… Губы его были сухими и даже каким-то колючими… И уходил в свою спальню. Часто он уезжал на всю ночь… И утром вообще меня не замечал. Когда мы изредка выходили в свет, я слышала шепотки за своей спиной, но не могла разгадать их смысл… Я старалась убедить себя, что все нормально, у меня такая же жизнь, как и у многих – ну, не сказать что хорошая, но и не безнадежно плохая. Муж мой всегда был спокоен и как-то отстранен, по большей части он казался погруженным в свои думы. Часто я видела, как он бродит туда-сюда по залу и что-то бормочет себе под нос. Потом я узнала, что он пытается сочинять стихи. Случайно нашла забытый им листок на полке шкапа в его кабинете… Там было что-то о природе, о траве, о луне, о «мятущихся» деревьях… Ужасающе бездарное четверостишие. Но оно меня тронуло. Я посмотрела на него какими-то другими глазами, я старалась оправдать его равнодушие. Я стала ласковой с ним, сама старалась обнять, прижаться… Пытаясь быть вежливым, он тоже обнимал меня, но неизменно меня обдавало холодом от этих объятий… И однажды, заглянув ему в глаза, я увидела там даже не равнодушие, а… гадливость, что ли… трудно объяснить… но казалось, что он все на свете готов отдать, чтобы я его больше никогда не обнимала. Это открытие потрясло меня. Я стала по возможности избегать его. Он был этому, пожалуй, только рад. А потом мне один человек… в общем, мне кое-что разъяснили по поводу того, почему мой муж так себя ведет. Это едва не убило меня, казалось, небо рухнуло на землю. Сначала я не могла поверить. А потом… потом все сошлось. Его странные приятели, ночные отлучки… Боже, что со мной было… Тогда-то я и перестала быть наивной восторженной девочкой. Кроме того, я стала задумываться о том, что между мужем и женой должны быть близкие отношения – так повелел Господь, «плодитесь и размножайтесь»… Понемногу мир открывался мне из разговоров, наблюдений, из книг – и все это заставляло меня томиться и страдать оттого, что я не могу быть счастливой простым человеческим счастьем… Как же я жалела, что согласилась на этот брак! Думала, что главное – остаться в России, а остальное неважно. А оказалось, что важно… – Ольга помолчала, устремив взгляд куда-то вдаль, сквозь переборку каюты. Грудь ее вздымалась от волнения. – Но я пересилила себя. – Тут она посмотрела прямо на меня. – Я много молилась. И… и я смогла смириться. Я успокоилась и перестала метаться. Я осознала, что на все воля Господа нашего… А значит, не зря он дал мне именно такого мужа. И я лишь просила Господа открыть мне промысел Его. И в какой-то момент меня отпустило – у меня словно открылись глаза, а жизнь вновь окрасилась яркими цветами. Мне стали нравиться мужчины… – Ольга улыбнулась, и в ее глазах заплясали задорные огоньки. – Нет, конечно, у меня и в мыслях не было завести себе любовника, а как бы это сказать… ну, мне хотелось общаться с мужчинами, изучать их. Я стала изображать их образы… Вот, знаете, карандаш скользит по бумаге, ведомый лишь моим вдохновением – и наконец выходит мужественное лицо романтичного пирата… или загадочного рыцаря… или весельчака-менестреля… Или я просто изображаю обнаженное мужское плечо вместе с рукой… – Она звонко рассмеялась. – Потом рассматриваю свои рисунки и мне отчего-то стыдно становится… И такое, знаете ли, томление в сердце или в душе… не знаю… Наверное, это был зов естества. Мне хотелось любить… – Она замолчала, улыбаясь своим мыслям.
– Ээ… Ольга… – сказала я, завороженная ее милой, непосредственной манерой рассказывать, – может, еще по чуть-чуть?
– Давайте! – махнула она рукой, ну точь-в-точь так, как это сделала бы моя современница при подобных обстоятельствах.
Я разлила коньяк. Ольга, подняв рюмку, произнесла:
– А я хочу выпить за женщин! За таких, как вы, Дарья. Спасибо, что вы меня слушаете. Знаете, и вправду легче стало. Вот как будто гора с плеч! И как-то проще теперь на все смотреть, и яснее как-то все становится…
– Ну, давай за женщин, Ольга! – сказала я. – И за тебя в том числе!
Мы выпили. Я тоже не стала в этот раз закусывать. Она это заметила и состроила лукавую гримаску, после чего мы дружно рассмеялись. Алкоголь приятно кружил голову. В компании Ольги мне было хорошо, и я очень ценила ее доверие.
– Ну а что Новиков? – спросила я.
– Александр Владимирович… он… – она опустила глаза и зарделась – скорее, от удовольствия, чем от смущения, – он сделал мне признание… – И она подняла на меня глаза, из которых счастье так и выплескивалось.
– Правда? – задала я риторический вопрос. Я искренне разделяла ее радость, я так ее понимала – ведь я тоже была счастлива в любви… – Ну а ты? – И этот вопрос также был риторическим.
– А я… – она потупилась и через несколько секунд прошептала: – Я дала ему надежду… То есть, нет, не надежду, а обещание… что буду ждать… Ну вот… Ах нет, это еще не все…
– Можно угадаю? – весело воскликнула я. – Вы целовались?
По ее радостно-изумленным глазам я поняла, что попала в точку…
* * *
18 апреля (1 мая) 1904 года, утро. Штурм тюреченской позиции на реке Ялу, г. Ичжоу
Британский военный агент при армии генерала Куроки, рыцарь Британской Империи, генерал-лейтенант Ян Стэндиш Монтит Гамильтон
Всю пошло совсем не так, как нам обещали «доброжелатели» в русском штабе. Вместо того, чтобы отступить после нескольких ничего не значащих перестрелок, русские вцепились в свой берег реки бульдожьей хваткой. Самые ожесточенные бои происходили на склонах Тигрового холма (на русских картах обозначенного как Медвежья сопка), ведь без установления контроля над этим ключевым пунктом не было никакой возможности провести операцию по глубокому охвату русских оборонительных позиций. К тому же с вершины Тигрового холма наши позиции на низменном правом берегу реки Ялу просматривались на много миль вглубь, и нечего было даже и мечтать о какой-то скрытности, пока там сидят русские наблюдатели, в том числе и артиллеристы. Малейшее шевеление на наших позициях тут же вызывает на себя очередь русских шрапнелей.
Честь штурмовать Тигровый холм изначально была доверена гвардейской дивизии. В течение трех суток она по нескольку раз в день кидалась на штурмы и каждый раз откатывалась назад, обливаясь кровью и теряя лучших солдат и офицеров. Первоначально считалось, что Тигровый холм занимают лишь немногочисленные разведывательные подразделения русских, но когда гвардейцы первый раз пошли в атаку, выяснилось, что численность русского гарнизона этой высоты никак не меньше полка. К тому же для того, чтобы атаковать русские позиции на этом холме, японской гвардии требовалось предварительно пересечь несколько водных преград; и если через речные рукава шириной около двухсот-трехсот ярдов, отделяющие остров Киури от левого берега, были переброшены деревянные мостки на козлах, то главное русло реки Ялу требовалось пересекать на лодках. И все это на низменной открытой местности, как я уже говорил, просматриваемой русскими наблюдателями далеко вглубь.
Едва японская пехота начинала накапливаться на исходных позициях, как тут же, с обратного по отношению к нам склона Тигрового холма часто-часто принималась стрелять русская артиллерия. Пушки, расположенные на открытых позициях, оказались грубыми деревянными муляжами, на поражение которых японская артиллерия извела немало снарядов, а настоящие пушки были от нас скрыты, и из-за этого нанесли японским войскам просто огромный ущерб. Одним словом, когда японские войска, накопившись на исходных позициях на левом берегу реки Ялу, бегом бросались в атаку, над их головами тут же распускались белые цветы шрапнельных разрывов. Пробежав по мостам и низменному и открытому со всех сторон острову порядка двух миль и понеся при этом определенные потери от шрапнельного огня, японские солдаты оказывались перед быстро текущей водной преградой шириной в пятьсот ярдов и глубиной во все три. Это основное русло реки Ялу требовалось преодолеть на маленьких китайских рыбачьих лодках, с учетом того, что выходящие на японский берег этой протоки попадали под частый и очень меткий ружейный обстрел русских с противоположного берега.
Как ни удивительно, но при всех этих сложностях японской пехоте несколько раз удавалось преодолеть все эти непреодолимые для простых смертных препятствия и, достигнув противоположного берега, броситься вверх по склону Тигрового холма с намерением растерзать засевших там русских пехотинцев. Но это у них не очень-то получалось, потому что русская артиллерия тут же умолкала и навстречу зеленой японской волне из окопов на склоне холма, блестя штыками, поднималась белая волна русской пехоты, и атака японской гвардии заканчивалась отчаянной рукопашной резней, в которой более массивные и мускулистые русские солдаты неизменно одерживали победу. Ну, а потом все начиналось сначала. Когда силы гвардейской дивизии оказались на исходе, к атакам на Тигровый холм подключились части двенадцатой дивизии (которые, по предварительному плану, должны были осуществлять глубокий обход русских позиций), и даже части второй дивизии, которая последней подошла к рубежу реки и должна была атаковать вражеские позиции в центре.
Там, в центре, тоже все шло не так, как задумывалось. После нескольких ожесточенных схваток, зачастую переходящих в рукопашную, японским частям удалось сбить русских с их передовых позиций и очистить от них остров Самолиндза, на котором планировалось установить артиллерийские батареи, но дальше дело застопорилось. Во-первых – до острова, который насквозь просматривался не только с Тигрового холма, но и с высот на правом берегу Ялу, вполне долетали русские шрапнели, что делало работу японских артиллеристов крайне некомфортной. Во-вторых – как только японские пушки были размещены и открыли огонь по русским позициям (в том числе и по Тигровому холму), на их позиции время от времени стали прилетать снаряды неприятно крупного калибра, наносящие чудовищные разрушения. Русские пушки били редко, но метко и очень сильно, в результате чего японская артиллерия несла значительные потери и была почти лишена возможности вести огонь по позициям противника.
Через некоторое время выяснилось, что русские ввели в устье Ялу четыре древние, но еще вполне боеспособные канонерские лодки – они, стоя на якоре у деревни Самолиндза (там, где все речные рукава сливаются в единое русло) упражнялись в стрельбе по японским батареям. Тем не менее, давая один выстрел не чаще чем в раз в минуту, эти морские пушки с учетом веса снаряда представляли значительную угрозу. Попытка некоего отчаявшегося командира отогнать русские канонерки ружейным огнем через реку, ширина которой в этом месте составляла не менее трех четвертей мили, обернулась для японцев очередным конфузом. Оказалось, что помимо редко стреляющих пушек-монстров, каждая канонерка вооружена вполне дееспособными орудиями калибра девять фунтов (107-мм), а также револьверными полуторадюймовыми (37-мм) пушками, которые буквально устроили побоище вышедшим на противоположный берег двум японским пехотным батальонам. И это не считая установленных на тех же канонерках пулеметов Максима, которые тоже преизрядно проредили японские стрелковые цепи.
Дополнительно эта ситуация с артиллерией осложнялась тем, что закупленные японцами в Германии крупнокалиберные гаубицы Круппа, предназначенные для усиления 1-й армии Тамэмото Куроки, так и не прибыли к месту своего назначения, так как перевозивший их пароход был перехвачен одним из русских блокадных крейсеров. Теперь следовало ожидать, что спустя какое-то время эти грозные пушки обрушат свои снаряды уже на японские головы. А пока, имея на вооружении только легкие полевые пушки образца 1898 года, предназначенные исключительно для ведения настильного огня и к тому же лишенные противооткатных устройств, выкурить русскую пехоту из глубоких окопов, нарытых ею буквально за несколько дней, не представлялось возможным.
И только совсем недавно от офицера-перебежчика, сумевшего на утлой лодчонке под покровом темноты переправиться через Ялу под шквальным огнем русских стрелков, мы узнали страшную для нас новость. Смертельно раненый русской пулей, этот человек сообщил нам о том, что не только генерал Куропаткин был отстранен от командования всей Маньчжурской армией, но также от командования противостоящим нам Маньчжурским отрядом наследником русского престола принцем Майклом был отставлен вялый и безынициативный генерал Засулич. На этом посту его сменил храбрый до безумия и очень активный генерал Федор Келлер, который поклялся драться до последней капли крови последнего русского солдата. Кроме того, перед смертью перебежчик сообщил, что дьявольски хитрый план этого сражения придумали люди принца Майкла, а генерал Келлер только поклялся в том, что будет его неукоснительно придерживаться. И что нам было делать в током случае, когда все наличные силы у нас уже были втянуты в сражение, перелома в ходе которого пока даже не просматривалось? Мы должны пытаться довести наш план до конца или прекратить атаки и попытаться понять, во что это для нас может вылиться. К несчастью, уже понесенные потери, растраченные боеприпасы, а также поврежденное и уничтоженное военное имущество не давали второму варианту никаких шансов на существование. Только безоговорочный успех и прорыв русских позиций могли бы позволить генералу Куроки оправдаться за уже понесенные потери.
* * *
18 апреля (1 мая) 1904 года, полдень. Тюреченская позиция на реке Ялу
Полковник морской пехоты Александр Владимирович Новиков
Генерал Куроки не сразу понял, что здесь ему теперь не тут, и с достойным дятла упорством долбился в оборону шестой восточносибирской дивизии на Медвежьей сопке. И опять, как и в прошлый раз, два пехотных полка сдерживали атаки почти всей японской армии, но только на этот раз они сидели в глубоких окопах и щелях на почти неприступной высоте, и взамен выбывших по ранению или смерти солдат и офицеров в окопы регулярно поступало пополнение. Кроме всего прочего, на части, обороняющие Медвежью сопку, работала чуть ли не вся артиллерия Восточного отряда, ибо других целей считай что и не было. Этот Куроки зациклился на несчастной горушке, как подросток на предмете своей несчастной любви, и домогался ее любой ценой. Впрочем, попытки прощупать нашу оборону в центре позиции кончились для него весьма печально, поэтому он и не прекращал попытки сокрушить наш левый фланг и выйти на задуманный изначально обходной маневр.
Но обстановка менялась стремительно, хотя японцы об этом ничего не знали. Вчера перед полуднем к деревне Тензы начали подходить передовые батальоны 1-го восточносибирского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Георгия Штакельберга, а уже к закату сосредоточение корпуса за правым флангом Восточного отряда было полностью завершено. Тридцать два батальона сибирских стрелков при поддержке двух стрелковых артиллерийских бригад (48 трехдюймовок) и одного тяжелого артполка (24 трофейные гаубицы Круппа), плюс моя бригада морской пехоты, которая в любой момент могла высадиться на левом берегу с миноносцев и катеров – это была более чем серьезная поддержка. Настолько серьезная, что она полностью изменила тактический расклад на Тюреченской позиции, ведь напротив изготовившегося к удару кулака на другом берегу Ялу у японцев имелись только два изрядно потрепанных батальона без артиллерии и пулеметов. Операция в стиле Великой Отечественной – с охватом открытого фланга противника и его дальнейшим полным окружением и уничтожением – напрашивалась тут сама собой.