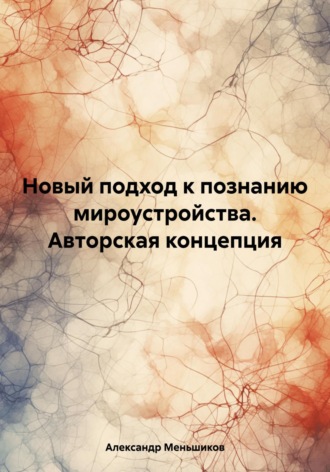
Новый подход к познанию мироустройства. Авторская концепция
Обращение к фундаментальным понятиям мироустройства находится за пределами познавательной платформы антропоцентризма. Выход же за такие пределы немедленно заставляет перейти к осмыслению самого понятия случайности, в том числе и к природе случайностей, в первую очередь к раскрытию вопроса о возможности существования «абсолютной», «чистой», случайности, о заведомой абсолютной независимости событий.
И здесь путём несложных рассуждений мы приходим к выводу: абсолютной случайности в природе нет и быть не может. Нить рассуждений такая: вселенная существует, она реальна. Это указывает на её целостность, а значит на её единство. Из единства вытекает неизбежность какой-то взаимосвязи между всеми её проявлениями, а раз есть взаимосвязь, значит, абсолютной, ни от чего не зависящей, случайности нет и быть не может. Взаимосвязь, пусть и крайне слабая, существует всегда, и в пределе она может быть обнаружена и выявлена.
Опираясь на общеизвестное универсальное «распределение случайностей» (например, распределение Гаусса), мы можем строить любые прогнозы с любой точностью, но эта точность никогда не будет абсолютной.
Отсюда вытекает и ещё один вывод: природа, вселенная, каким-то образом «управляет» этими случайностями, задавая, образно говоря, форму «кривой Гаусса» и применяя её к тому или иному конкретному событию.
Этот вывод указывает на ещё один аспект случайностей, также остающийся вне поля зрения исследователей, а именно: на своеобразный переход вероятности события от почти нулевой до полной, 100-процентной.
Рассмотрим любое часто встречающееся в жизни крайне маловероятное, но всё же реализующееся событие – начиная от выигрыша в лотерею, который в любом случае на кого-то всё равно выпадет, и заканчивая крайне маловероятным сочетанием химических процессов и физических условий их протекания, завершившимся зарождением жизни на Земле.
Первоначально эта вероятность представляется чуть ли не нулевой. Но она всё же реализуется, проходя все «этапы» возрастания от почти нуля до 100 процентов.
Здесь выявляется некий парадокс. При наблюдении за данным конкретным почти невероятным событием мы видим возрастание этой вероятности, что можно представить себе как некий пик на кривой Гаусса. Он относится к «точечному» событию, но в общую схему никак не укладывается.
Возможно ли было это предвидеть? Едва ли. Но оно всё же сбылось. Вероятность стала стопроцентной (‼!).
Рассуждая далее, придём к выводу: некое «управление случайностями» имеет место, и оно присуще природе по самой её сути.
Зарождение указанных «пиков» очень сильно напоминает пространственно-временны̀е флуктуации, уже упомянутые в тексте и обнаруженные наукой (правда, полузагадочные и необъяснённые).
Обобщая сказанное, вновь можем прийти к предположению о наличии у природы некоего разумного начала – разумного в недоступном нам понимании, особенно если это понимание ограничено антропоцентризмом.
Заменителем такой «управляющей силы» человек полагает Бога, и это отчасти оправдано. Однако бог, будучи непознаваемым, не наложил на нас запрета изучать и познавать его творения, в том числе и силы, управляющие распределением вероятностей и реализацией случайностей. Следовательно, такое изучение не равносильно «свержению Бога» и не противоречит даже и религиозным канонам.
Как видим, расширение познавательной платформы может оказаться достаточно плодотворным и направить наши исследования на пути, которые значительно отличаются от традиционных, но способствуют углублению наших знаний о мире, задавая новый вектор в его изучении. Параллельно мы углубляем и свои теоретические представления о самых основных, первичных, фундаментальных, понятиях – возможно, даже расширяя их перечень.
Примеров, подобных приведённому, можно привести огромное множество, так как отказ от А. открывает доступ к безграничному полю познавательной деятельности.
Глава 6
Антропоцентризм «второго уровня»
Мимолётные мысли
Освежая в памяти философские и естественнонаучные труды и концепции, везде наталкиваешься на ещё одно неявное, но навязчивое и неискоренимое проявление всё того же антропоцентризма. Назовём его антропоцентризмом «второго уровня», далее также «А2.».
Если «обычный» антропоцентризм («А.») проявляется в неспособности человечества отойти от своего «Я» и увидеть мир, и себя в том числе, как бы со стороны, дав максимально объективную, насколько это возможно, оценку своего места в мироустройстве и пределов своих возможностей в его познании, то А2. представляет собой нечто качественно иное, и тоже связанное с неадекватной оценкой своего места и своей роли в мире.
А2. представляет собой такое же губительное заблуждение, только заблуждение ещё менее осознаваемое, а потому и более опасное.
В чём это проявляется?
Просим простить за некоторую гротескность и грубые аналогии, но они представляются нам наглядными и доступными для уяснения.
А2. проявляется в том, что, даже отойдя от А., человек сохраняет внутреннюю позицию «постороннего» во вселенной, позицию «внешнего наблюдателя», созерцателя, отделяет свой уютный мирок от объекта познания, то есть от всего остального мира: понаблюдал, и хватит. пойду-ка домой, мир подождёт, у меня есть свои дела.
Образно говоря, человек в процессе познания мира ведёт себя как вор, забравшийся в чужую квартиру с безграничным набором всяческих чудесных вещичек, назначения которых он не знает, и складывает эти вещички в бездонный мешок: вернусь домой – разберусь и придумаю, как мне приспособить куда-нибудь эту диковинку. Пистолетом буду колоть орехи, из компьютерной клавиатуры смастерю кнопки для баяна, планету, ядро которой состоит из чистого золота, распилю на кусочки и продам – ведь я хозяин вселенной, Господь позволил мне распоряжаться тем, что в ней есть.
Фундаментальные открытия учитываются «поштучно» и воспринимаются как арифметическое пополнение копилки.
Вторая аналогия: человек ведёт себя ребёнок, наконец-то добравшийся до бабушкиной швейной машинки, чтобы покрутить вволюшку колёсики и подёргать рычажки, не осознающий того обстоятельства, что эта швейная машинка кормит всю семью.
Третья: «снабженец», которому нужны гвозди, и он их надёргает из фундамента чужого дома («наконец-то нашёл!»).
И так далее, и тому подобное.
Осознание того, что это не чужой, а твой собственный, дом и не чужая, а твоя собственная квартира, что ни одна занятная штучка в ней не появилась просто так, отсутствует. В результате такого грабежа мы не только и не столько разрушаем этот дом, сколько готовим почву для того, чтобы потом, спохватившись, кусать локти и пытаться вернуть потерянное понапрасну время.
Дом уцелеет, мы не в силах причинить ему хоть какой-то вред, но мы, закопавшись в мешке с крадеными ценностями, опять решим, что всё знаем, и вновь примемся перекраивать уже своё собственное «жилище», то есть сформируем очередной «образ мира» и очередной набор «законов природы».
И здесь уже нет никакого преувеличения.
Все научные открытия мы встречаем радостно, складываем в кучку, сортируем и приступаем к размышлению о том, что за штучку мы нашли и как нам её приспособить. Возникает счастливое понимание того, что мы разбогатели, и теперь можем себе кое-что позволить. А в квартире той осталось ещё много чего занятного, на наш век хватит, и внукам ещё останется.
Грубая аналогия? Да, грубая. Примитивная? Ну, не столько примитивная, сколько прямолинейная, однако точная.
Полагая себя с позиции А. хозяевами мира, мы встаём на позицию А2. и ведём себя как незваные гости – вместо того, чтобы осознать себя хозяевами, ответственными за этот мир и за своё обустройство в нём, а главное – осознать исключительно прочную взаимосвязь между каждой диковинной вещичкой, их взаимным расположением и бесконечно глубоким содержанием того и другого. То и другое в конце концов ведёт в глубину картины мира, в её истоки, и посторонним там делать нечего, вселенная бесконечно сильна, и она отторгнет из себя кого и что угодно постороннее.
Оказавшись же отторгнутыми, мы вдруг поймём, что вне вселенной нам места нет, что мы были и останемся её частью. Только теперь будем отправлены «на переплавку» как одна из её тупиковых ветвей, и обратного пути уже нет.
Причастность ко вселенной мы в принципе в какой-то мере осознаём, только при этом истинным её хозяином полагаем Бога, а значит снимаем с себя всякую ответственность за содержание этого «дома», за свои поступки и их последствия – Бог всемогущ, мы его любимое творение, он позволит нам пошалить, и потом всё восстановит, а нас простит.
Здесь наблюдается и ещё одна особенность человеческого мировосприятия: готовность все свои ошибки и неприятности приписать Богу, его воле, и списать на него. Другой вариант: посетовать на жизнь словами: «судьба такая!..»
В целом же человеческое поведение во вселенной как в чужом доме, полном диковинок, с возложением ответственности за его содержание на плечи Творца мы бы охарактеризовали как иждивенчество и паразитизм. Какова судьба иждивенцев и паразитов – это всем известно из своего собственного опыта обитания в социуме, в обществе. Представляется, что и на вселенском уровне финал может быть аналогичным.
В заключение подчеркнём: мы часть этого мира, в нём всё взаимосвязано, и количество этих взаимосвязей бесконечно велико. Мы ими тоже пронизаны, потому что включены в этот оборот. Любое искажение мировосприятия неизбежно отразится и на нашей собственной судьбе. Следовательно, никогда нельзя рассматривать наш образный мешок, то есть багаж знаний, полученных нами как бы «извне», как детский конструктор, из которого мы мастерим себе свою собственную вселенную. Она заведомо никогда не будет соответствовать реальной вселенной.
Находясь «внутри» этой неполной конструкции, следует осознавать, что сама она тоже находится «внутри» – внутри вселенной, а не вне её, и её существование полностью обусловлено «внешними» силами, о которых нам известно пока ещё крайне мало.
«Поштучность» наших открытий и радостное зачисление их в свой «актив» отмечаются повсеместно и являются характерной приметой нашего познания, которая явно прослеживается даже в трудах весьма вдумчивых мыслителей. В частности, можем указать на неоконченный труд Фридриха Энгельса «Диалектика природы».
Констатируя торжество человеческого сознания, мы торопимся применить свои выводы на практике, считая их окончательными и не допуская никаких сомнений в их справедливости. Выводы же эти часто, весьма часто, оказываются либо ложными, либо скороспелыми, либо просто искусственными и необоснованными.
Как это преодолеть? Мы не знаем. Со временем человечество, вероятно, придёт к преодолению этого своеобразного иждивенчества и «чувства гостя», хотя полной уверенности в этом нет.
Мы же пока просто стремимся привлечь внимание к этой далеко не безвредной для нас особенности человеческого самоопределения, рассчитывая, что это сможет хотя бы в малой степени повлиять на отношение к устоям и первичным принципам познавательной деятельности в ходе конструирования моделей мироустройства.
Глава 7
Иные уровни «центризма»
Иллюстрация к применению автором своей концепции познания
Кратко о низших уровнях (уровнях первого порядка).
Мы рассмотрели два уровня «центризма»: первый уровень – «эгоцентризм» как свойство, характеризующее неспособность индивида выйти за пределы своего «Я» и увидеть не только себя, а вообще что бы то ни было со стороны, «глазами» другого индивида.
Ясно, что здесь речь идёт только о человеческих индивидах, обладающих более или менее одинаковым устройством организма, психики и сходным набором представлений о мире, и о взаимодействии только между ними.
Для чего потребовалось это уточнение? Оно потребовалось для того, чтобы понять относительность любого эгоцентризма и любой «децентрации». Согласитесь, нам не придёт в голову серьёзно попытаться увидеть себя глазами кошки или мухи (реальной кошки и мухи, а не сказочной). Мы никогда не проникнем в их «внутренний мир» и никогда не поймём, какими выражениями они пользуются, когда пытаются дать нам характеристику.
Во втором уровне – антропоцентризме (А.) – мы выделили подуровень А2. Уровень А. характеризует неспособность к децентрации по отношению к иным, кроме человека, разумным существам (в первую очередь потому, что мы практически исключаем возможность иного разума, кроме человеческого) и даже к чему-то реальному, но достаточно отвлечённому. Это неспособность взглянуть на себя, например, «глазами вселенной».
Подуровень А2 раскрывает следующую особенность нашей центристской позиции: осознавая себя избранными, мы воспринимаем всё остальное, в том числе и природу, как нечто чуждое и чужое, во многом враждебное и противостоящее нам, данное нам для обладания и использования в собственных целях. Здесь наблюдается отмеченный нами «синдром постороннего», или «синдром гостя» – гостя в чужом доме, которым управляет Господь, отдавший нам как избранным его сынам этот дом фактически на разграбление. Себя же мы числим где-то в стороне, отделяя от внешнего мира и отправляясь в него как в экспедицию, только чтобы пополнить кубышку всяческими отрывочными знаниями о нём, которые пригодятся нам для последующих вылазок.
Уровень второго порядка.
Рассмотрим его более подробно.
К уровню второго порядка мы относим уровень материалистический, вещественный.
Каковы основания для его выделения?
Основания имеются. Человек – существо материальное, он имеет физическое белковое тело и обитает в материальном мире, ощущаемом и зримом.
Согласно материалистической традиции, мир делится на материальную и нематериальную («идеальную») составляющие (здесь и далее автор опирается в основном – но только в основном – на неоконченный труд Фридриха Энгельса «Диалектика природы» – Москва, Госполитиздат, 1953 год).
Материалистическая философия обозначила эти составляющие как две крайние противоположности, установив некую дихотомию: да/нет, или/или. Для её упрощения синонимом идеального сделали «сознание» (очевидно, не без натяжки), а затем углубились в выяснение вопроса о том, что из них «первично», а что «вторично», то есть обратились, образно говоря, к извечной теме о том, что раньше появилось: курица или яйцо.
Вопрос о взаимной «первичности» или «вторичности» бытия и сознания получил в материалистическом миропонимании статус основного вопроса философии. В других философских концепциях он такого статуса не имеет.
Здесь прослеживается явное продолжение того же антропоцентризма, поскольку носителем сознания априорно считается человек, и никто или ничто иное.
Заметим, что граница проведена крайне небрежно и наспех, понятие материи практически никак не определено, и даже в той части, которую можно полагать определённой, оно весьма и весьма неполное. Определить же «идеальное» никто даже и не пытался. Впрочем, никто также не пытается и дать философское определение того, что такое «сознание».
Заметим, что понятие «сознание» охватывает далеко не всё то, что философия относит к сфере идеального. Оно привязано к человеку и к его мыслительной деятельности, а всё остальное из сферы идеального находится за пределами этого понятия.
Кроме того, содержание понятия «сознание» не соотнесено со смежными понятиями – как обиходными, так и философскими: разум, рассудок, мышление и так далее.
Но не в этом суть.
Суть дела вот в чём: если мы, даже будучи материалистами, поделили мир на две равновеликие части – материальное и идеальное – значит, мы фактически уже признали, что «идеальное» сосуществует с «идеальным» и занимает в реальном мире нечто, по объёму соизмеримое с материальным.
Конечно, материалисты, отождествив «идеальное» с сознанием, уже ответили на вопрос о реальности «идеального»: всякое «идеальное», как и сознание, является всего лишь продуктом мыслительной деятельности человека и не существует вне материального носителя, в данном случае человека, то есть отвели идеальному второстепенную, производную и зависимую роль.
Отметим, что, разумеется, эту мысль высказал тоже человек, а не какое-то иное существо, а следовательно, этот тезис тоже изначально антропоцентричен.
Возможно ли проявление или существование чего-то «идеального» вне материального носителя? Проведём сравнение. Под идеальным, очевидно, можно понимать, например, нечто подобное такому же неуловимому феномену, как «информация». Может ли существовать информация «сама по себе», без носителя?
Представляется, наиболее близко к понятию «чистой» и «бестелесной» информации стоит так называемый ген, который при крошечных размерах несёт в себе немыслимый объём информации, да ещё и способен к самовоспроизведению.
Материалистический взгляд на мир опирается на постулат атеизма. Под «идеальным» гласно или негласно понимается Бог, под первичностью или вторичностью одного по отношению к второму – вопрос: сотворён ли мир Богом, или возник «сам по себе»?
Ни материализм, ни «идеализм» не оспаривают того обстоятельства, что факт творения мира и существования Бога не может быть ни доказан, ни опровергнут, ни даже просто как-то «проверен». Таким образом, окончательный ответ на вопрос о «первичности» никогда не будет найден.
В такой ситуации есть основания, отвлёкшись как от «материализма» так и от «идеализма», считать обе позиции равноправными. Кстати, это иллюстрация того материалистического положения, согласно которому «крайности сходятся», не исключая друг друга, а рождая некое новое качество (имеем в виду тезис о «единстве противоположностей»).
Итак, встав на позицию «сошедшихся крайностей» и «рождения нового качества», сразу же напомним, что понятие материи материалистами практически никак не определено, а какие бы то ни было исследования в этом направлении никем не ведутся.
Точные и прочие естественные науки только копаются в кирпичиках «материи», не затрудняя себя их «классификацией». И это правильно, потому что понятие материи является понятием изначально философским и исключительно философским, а не частнонаучным.
В этом плане уместно вспомнить высказывание В.И.Ленина, согласно которому понятие материи просто-напросто неисчерпаемо: «электрон так же неисчерпаем, как и атом».
Обратившись к первоисточникам традиционного материализма, мы видим, что прямое отождествление материи с чем-то исключительно вещественным в них отсутствует. Скажем, Ф.Энгельс на первое место выдвигает даже не материю как таковую, а движение, рассматривая его как нечто вечное и неуничтожимое, количество которого всегда остаётся постоянным.
Само же движение рассматривается им как «форма существования материи».
Иными словами, над понятием материи возникает невещественная надстройка в виде движения, а над движением – абстрактное невещественное понятие «форма».
Под движением понимается любое изменение.
Он же наделяет содержанием физические понятия «сила» и «энергия», устанавливая следующее соответствие: сила есть всеобщее притяжение, а энергия – всеобщее отталкивание, предпочитая эти философские определения тем, которые применяются в естествознании.
Вещественность материи, очевидно, отражается в таких понятиях, как «частица», «масса», «объём». Находит упоминание и такое понятие, как «частицы эфира», что связано с тем, что к моменту становления материалистического взгляда на мир понятие эфира ещё не было отвергнуто наукой.
Таким образом, над осязаемой вещественностью возникают понятия притяжения и отталкивания, движения и форм движения.
В этих построениях незримо участвуют нигде не раскрытые понятия «время» и «пространство», тоже невещественные, но подразумеваемые как нечто объективно существующее в качестве арены для проявления движения и изменения.
Полагаем, что это свидетельствует об определённой абстрактности «надстройки» из «движения», «форм движения», «изменения» и так далее. Пространство и время остаются вне анализа, тогда как изменения могут быть выявлены лишь при условии их наличия. Для выявления и фиксации изменений необходимо сравнить состояния вещественных компонентов в два различных момента времени. Движение тоже зависимо от пространства и времени, оно определяется через представления о положении в пространстве и о скорости перемещения в нём. Однако понятие времени остаётся за скобками и не анализируется.
Материально ли в этой схеме время, материально ли пространство? Очевидно, что они материальны, хотя и не вещественны.
Представляется, что притяжение и отталкивание, движение и формы движения есть понятия абстрактные, описывающие «поведение» вещества, которое, в свою очередь, служит исходным пунктом материальности благодаря тому, что оно зримо и ощутимо, так как и сам человек, и всё его окружающее вещественны, зримы и ощутимы. Это служит предпосылкой для материалистических обобщений.
По нашему мнению, абстрактные понятия, сформированные в воображения человека, есть первая ступенька к раскрытию понятия «идеального» и «нематериального».
В самом деле, всё абстрактное есть плод человеческого сознания и обобщения, выделения свойств предметов и явлений, установления связей между ними.
Идеальное возникает в человеческом сознании и опирается на материальное, в первую очередь на «вещественное». С этой точки зрения материализм получает своё вполне логичное естественное оправдание.
Однако суть «основного вопроса философии» («Что первично: бытие или сознание?») состоит не в этом, а в том, возможно или невозможно существование «идеального» вне человеческого сознания, существует ли оно как таковое независимо от нас.
Дать определённый ответ на этот вопрос, не причислив себя к «материалистам» или «идеалистам», весьма сложно.
Однако давайте всё же попробуем подняться на «надфилософский» уровень, уровень как бы нейтральный, и подойдём к его рассмотрению, не принимая ни ту, ни другую крайность.
Отойдя от «человеческого» взгляда на мир, мы обнаружим, что он существует «сам по себе», независимо от наших оценок и от наших мнений. Все наши оценки и мнения возникают в нашем сознании в процессе нашего обитания в этом мире. Учитывая его вечность и безграничность, мы непременно придём к выводу о том, что все наши взгляды и теории имеют неизбежно временный характер, а период их устойчивости в масштабах бесконечного времени практически неразличим.
Разделение всех явлений бытия на материальные и идеальные также исключительно условно. Во-первых, оно родилось в человеческом сознании, и потому изначально субъективно и временно, во-вторых, это сознание, разделив мир на материальные и идеальные компоненты, не углубилось в его изучение настолько, чтобы провести более или менее определённую границу между первым и вторым.
Отметим здесь и то, что представляется для нас наиболее важным: и материализм, и идеализм рассматривают сознание как атрибут только человека, не рассматривая возможности существования других носителей сознания и других моделей «идеального». Не рассматриваются и какие-то иные формы разума, в том числе такие, проявлений которого мы принципиально не можем обнаружить, так как мы ограничены в своих возможностях своим земным бытом, происхождением и своей физиологией, включая набор органов чувств и далеко не безграничные аналитические способности мозга и даже воображения.
Отметим также, что даже и наши представления о том, что разум и сознание обязательно должны иметь некий физический носитель, тоже целиком проистекают из нашего человеческого понимания разума. Полагаем очевидным, что это всего лишь штамп человеческого мышления, а в конечном счёте – опять-таки проявление «центризма», правда, в этом случае уже не столько «антропологического», сколько «материалистического», и даже «грубо-» или «примитивно-» материалистического.
Уровень третьего порядка.
Всё только что отмеченное и есть в нашем понимании центризм более высокого по сравнению с А. и А2 порядка, есть центризм «материалистический» и «грубо материалистический».
Его сущность выражается в привязке человеческого мышления исключительно к человеку и его сознанию; в недопущении возможности существования иных носителей сознания; в отсутствии готовности допустить принципиальную возможность существования сознания без материального носителя, «обладателя», имеющего некое подобие физического «тела», локализованного в пространстве и времени. При этом пространство и время воспринимаются как нечто объективно существующее, априорно заданное и не имеющее каких-либо переменных параметров, то есть находятся вне предмета исследования и как бы за его пределами.

