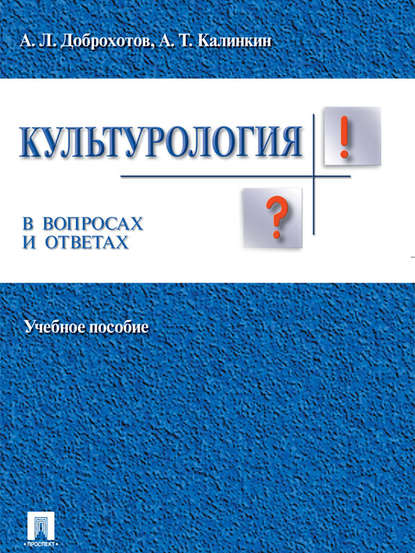По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проявляется интерес к национальной самобытности, фольклору. Пока это происходит в таких спокойных формах, как плодотворный интерес к «особенному», не растворившемуся во «всеобщем», что обогащает плюральное представление о культуре. Но Гёте уже видит в этой тенденции некую угрозу и развивает (в полемике со штюрмер-ством и ранним романтизмом) контрмотив: рассуждения о мировой литературе и мировой культуре. Такая форма конфликта универсального и партикулярного только подчеркивает, что однородная десакра-лизованная среда культуры уже сформировалась как некая общая оболочка.
В XVIII в. появляется сентименталистско-демократический принцип равенства людей в их природе, прежде всего в чувственности, каковая порождает равнодостойные уважения переживания. Отсюда стремление скорее понять «иного», чем оценить его с точки зрения готовой шкалы ценностей. Приоритет задачи понимания и эмпатического сопереживания перед репрессивной нормой (каковой, между прочим, является и художественный стиль) повышает интерес к индивидуальному, своеобычному и даже паранормальному.
Меняется характер европейского гуманизма: индивидуалистический гуманизм XVIII в., идеалы гражданского общества, борьба за права личности, права «естества» требуют не универсальной нормы (защищенной авторитетом власти), но автономии лица с его «малым» культурным миром или автономии сравнительно небольшой группы со своими ценностями и основаниями для солидарности (нуклеарная семья, салон, клуб, кафе, кружок, масонская ложа). Просвещенческий педагогизм, в свою очередь, развивает этот мотив как требование бережного отношения к своеобразной личности воспитуемого.
Критикуется репрессивный характер традиционных моральных норм. Либертинаж борется с «противоестественностью» этики. Возникает стремление защитить права всего «ненормативного» на свою долю в существовании. Штюрмерская литература понемногу поэтизирует насилие и темные аффекты. В свете этого понятен сдвиг умственного интереса эпохи от этики к эстетике с ее неповторимыми формообразованиями в качестве предмета понимания и сосредоточенные размышления над феноменом игры, в которой веку иногда видится тайна культуры.
Формируется интерес к бессознательному и стихийному. Обнаруживается, что эти феномены и процессы вполне могут иметь свою поддающуюся изучению форму. «Месмеризм» может лечить, поэзия может осваивать «сумеречные» состояния души, оккультизм — налаживать коммуникации с иными мирами… Такие взаимно полярные формы, как мятеж и традиция, могут равно опираться на воплощаемый ими «бессубъектный» смысл.
Возникают заметные сдвиги в стилевых формах искусства, его топике, в диспозиции и статусе жанров. Так, интимизируются классицизм и барокко; формируется психологический роман и «роман воспитания»; закрепляется эпистолярный жанр; беллетризуются дневники и путевые заметки; обозначается «виртуальная» архитектура (Пира-нези, Леду); в литературу приходит «культурный эксперимент» (Свифт, Дефо, Вольтер); реабилитируются «чудак» (Стерн), «мечтатель» (Руссо), «авантюрист»; искусство учится ценить красоту детства, прелесть примитива, поэзию руин, преимущества приватности, лирику повседневности — т. е. всего того, что находится на периферии властно утверждающей себя всеобщности нормы. В конце концов признается «равночестность» музыки другим высоким жанрам. Вообще, для века довольно характерна доминанта литературы и музыки, которые если и не оттесняют другие виды искусства, то меняют их изнутри.
Появляется своего рода культурный утопизм. Спектр его тем — от программы просвещенного абсолютизма (со свойственной ему стратегией руководства культурой) и мечтаний об эстетическом «золотом веке» до садово-парковых «единений с природой» и странствий культурных «пилигримов». Стоит заметить, что утопия — верный признак десакрализации мира и перенесения идеала в «здешний» мир.
Естественно, в этой атмосфере сгущаются релятивизм и скептицизм — постоянные спутники перезрелого гуманизма. Но они же по-своему логично пытаются «обезвредить» претензии догматизма их сведением к культурной обусловленности. Кант называет скептицизм эвтаназией чистого разума, но надо признать, что скептицизм XVIII в. не отказывал разуму в праве обосновать несостоятельность догматизма, для чего иногда требовалось именно «культурное» разоблачение. Налицо быстрое становление европейской интернациональной интеллигенции, соединяющей огромное влияние на общественное сознание с весьма удобным отсутствием прямой ответственности за свои идеи и проекты. Активно формируется медиакультура. В этом контексте появляется профессиональная художественная критика.
К концу столетия французская политическая и английская промышленная революции демонстрируют фантастическую способность активного автономного субъекта творить собственные миры вместо того, чтобы встраиваться в мир, данный от века.
Сводя все эти симптомы в целое, мы обнаруживаем сдвиг настроения, чем-то напоминающий коперниковскую эпоху расставания с геоцентризмом: уходит уверенность в существовании неподвижного центра, воплощенного нашими идеалами и ценностями; приходит ощущение разомкнутого многополярного универсума, где каждый субъект может постулировать свой мир и вступить в диалог с другими мирами. Параллельно этому возникает и попытка теоретического обоснования такого мировоззрения. От Вико и Гердера до Гегеля и Шеллинга простирается путь европейской мысли к «философии культуры». Мы увидим, что пограничным и ключевым текстом стала «Критика способности суждения» Канта. В этом произведении впервые была описана телеологическая (по существу, культурная) реальность, не сводимая к природе и свободе. Особо следует отметить роль йенского романтизма, который дал, пожалуй, наиболее живучую модель понимания мира как мифопоэтического культурного универсума, воспроизводившуюся другими культурами и эпохами. К началу XIX в. мы видим оформление того, что когда-то Вико назвал «новой наукой», в качестве нового типа рационального знания о культуре.
Итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668–1744) по праву считается одним из основоположников культурологии. В своей главной работе «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) он выдвигает учение о циклическом развитии мировой истории, причем принципиально рассматривает историю как общий процесс единого человечества, протекающий по одним и тем же законам, предписанным «провидением» (что было, по сути, псевдонимом причинности, подчиняющей себе отдельные стремления и борьбу людей за свои частные интересы). Каждый цикл состоит из трех эпох:
1) век богов: детство эпохи, бескрайняя свобода, безгосударствен-ность, власть жрецов;
2) век героев: юность эпохи, появление аристократического государства, доминируют сила и воинственность;
3) век людей: зрелость эпохи, формирование демократической республики или монархии, ограниченной представительством; сила уступает место праву и гражданскому равенству, торговля объединяет человечество в одно целое, развивается промышленность и техника, процветают науки и искусства.
В отличие от Иоахима Флорского, также изобразившего троичную схему культурного роста, Вико не считает историю исполнением некой телеологии. Во-первых, цикл может и не состояться по тем или иным причинам; во-вторых, круговращение истории бесконечно: история движется через накопление противоречий и взрывы конфликтов к итоговому кризису, после которого все начинается сначала. Особое внимание Вико уделяет проблемам собственности (и их оформлению в праве). Они и являются мотором истории. Собственность века богов представляет «отец семейства», который, стремясь подчинить себе «домашних», опирается на слуг и дарует им земельную собственность, порождая тем самым век героев. В героическую эпоху отеческая власть становится властью земельной аристократии, подчиняющей себе народ. Эпоха людей преодолевает имущественное неравенство за счет развития ремесел и торговли и правового порядка, но порождает переход от гражданской свободы к своекорыстию и анархии. При всем том фатализма в учении Вико нет: он уверен, что воля и творчество человека не скованы предопределением, люди творят свое время, а не наоборот; о детерминации он говорит лишь применительно к большому историческому времени.
Вико хорошо осознавал новизну своего учения и создал для него философский фундамент. Он активно критикует Декарта за то, что тот свой рационалистический метод, подходящий лишь для естественных наук, стремился сделать универсальным. Для Вико нет единого типа рациональности: мир природы и мир истории устроены по-разному и должны познаваться различными методами. Как это ни парадоксально, Вико считает естественно-научные знания лишь правдоподобными, а исторические — достоверными (при определенных условиях). Дело в том, что, согласно Вико, знать можно только то, что сам сделал: истинное (verum) и сделанное (factum) взаимозаменимы. Бог творит мир и тем самым его познает; люди творят лишь в меру своих сил, но то, что делают, они вполне знают в рамках этой меры. Поскольку история творится людьми, то она и познаваться должна не как природа, а как область деяний человека. Для культурологического подхода принцип «verum = factum» весьма конструктивен, поскольку он задает важный принцип понимания: для наук о культуре понять — значит создать модель целенаправленного действия. Возможно, между Сократом и Кантом не было больше других мыслителей, кроме Вико, которые подсказывали бы такие далеко идущие выводы из тождества созданного и познанного.
Несмотря на то что эмпирическая база Вико как историка была весьма ограничена (в основном это история Древнего Рима или поэмы Гомера), он формулирует такие принципы культурно-исторического исследования, которые станут устоями сегодняшнего историзма: опора на источники; исследование взаимодействия всех сторон культуры; внимательное отношение к мифам, обрядам, ритуалам, материальной культуре; интерес к языку как историческому источнику и фактору культуры; учет конкретно-исторического своеобычного характера институтов каждой эпохи, взаимное использование науками результатов их работы. Вико не был прочитан в свое время европейским Просвещением: для научной общественности его открыл лишь в XIX в. французский историк Мишле. Но ретроспективно мы видим, что формирование культурологического подхода к истории произошло именно в его «Новой науке».
Статус особой ветви знания придает культурологии Просвещение, провозгласившее своей задачей распространение идеалов науки, свободы и прогресса. Попробуем прояснить эту неслучайную связь, поскольку она будет сказываться и на дальнейшей истории культурологии. Принципиальна установка Просвещения на разум как высший авторитет в решении моральных, политических и практических задач. Императив разума необходимым образом связан с ответственностью его носителей — просвещенных граждан. Поскольку разум, освобожденный от предрассудков, является единственным источником знания, ключевой целью становится очищение разума. Здесь мы узнаем мотив, звучащий с самого начала Нового времени, с эпохи религиозных войн XVI в. и становления научного естествознания в XVII в.: овладение сознанием и наведение на его территории порядка — это вовсе не дело кружка праздных философов, это прямая обязанность ответственной части общества (т. е. в конечном счете власти). В XVIII в. оказалось, что реализовать эту программу можно благодаря союзу просвещенного абсолютизма с образованной общественностью. (Их отношения не заладились, и дело кончилось революцией, но проект оказался жизнеспособным, хотя сейчас, в свете исторической памяти, мы не склонны оценивать его с однозначным энтузиазмом.) Очищение разума требует знания о том, как устроена машина культуры — не только источник знаний, умений, добродетелей, но и главный генератор предрассудков. «Просвещенческая» составляющая останется постоянным элементом в истории наук о культуре, поэтому для нашего обзора истории культурологических учений его внутренняя структура может служить одной из матриц объяснения тех процессов, которые нас интересуют.
Британия XVII–XVIII вв., осваивая открывшиеся возможности Нового времени, безусловно, лидировала в политическом и экономическом отношении, задавая образцы подражания более инертному и сложному миру континента. Теоретическое осознание культуры было подчинено этой практической динамике. Главными культурологическими темами английского Просвещения становятся эстетика, мораль и история. Доминирует в британской традиции стремление окончательно избавиться от средневековых универсалий и основать новую культуру на фундаменте здравого смысла и эмпиризма. Основная задача понимается как поиск корней всех идеалов и норм в «естественных чувствах». Показательна здесь эстетическая мысль, которая весьма основательно повлияла на континентальную культуру.
Идеи Э. Э. К. Шефтсбери (1671–1713), собранные в двухтомнике «Характеристики людей, обычаев, мнений и времен» (1714), репрезентируют первую версию понимания культуры в сформировавшемся английском Просвещении. По Шефтсбери мир устроен Богом как гармоничная система связи частей и целого. Поэтому человеку для счастливой жизни дан надежный компас — способность стремиться к общему благу, что в конечном счете доставляет и благо личное. Шефтсбери выдвигает учение о «моральном чувстве», оказавшееся впоследствии одной из доминант британской мысли Просвещения. Моральное чувство не только побуждает выполнить долг, но и доставляет наслаждение от созерцания добродетели, что, в свою очередь, является источником красоты, а значит — искусства. Такое направление мысли позволило последователям Шефтсбери (Хатчесону, Юму и др.) сформировать целую программу пересмотра оснований культуры и выведения всех ее свойств и способностей из изначально доброго естества индивидуума, раскрывающегося в конкретном опыте.
Критиком этого оптимизма стал Б. Мандевиль (1670–1733), в своей аллегорической сатире «Басня о пчелах» (1717) смоделировавший человеческое общество как «улей», в котором властвуют эгоизм, обман, корысть, а за ними следуют все мыслимые пороки. Все заявленные людьми благие цели Мандевиль систематически разоблачает как лукавство или самообман. Однако именно эту морально дурную природу человечества Мандевиль считает реальным двигателем социальности и культуры. Более того, именно здесь скрыт источник цивили-зационного прогресса. Логика Мандевиля проста: отдельный порок заставляет общество как систему уравновешивать его действие противодействием, что и стимулирует культуру в целом. (Так, если есть кражи, то есть и работа для слесаря, делающего замки, и т. д.) Он называет зло животворящей силой общественного порядка, да и самого добра, тогда как добра опасается из-за его расслабляющего и усыпляющего эффекта. При всех этих парадоксах Мандевиль понимает, что превратить пороки в добродетели может только разумная политическая власть, к назиданию которой и обращена его сатира.
Британские мыслители все же предпочли менее парадоксальную версию культурной динамики и подхватили идеи Шефтсбери. Ф. Хатчесон (1694–1746 (1747)) углубляет учение Шефтсбери о моральном чувстве и решительно отказывается искать его истоки во врожденных идеях, разумном эгоизме или божественных установлениях. Моральное чувство, по Хатчесону, есть непосредственная инстинктивная реакция на факт и вытекающая из этого оценка. Как таковое оно не нуждается ни в рациональных, ни в мистических, ни в прагматических основаниях. (Однако избежать проблемы обоснования Хатчесон все же не в состоянии, и это побуждает его склониться к мягкой форме теологической версии.) Итоговый труд Хатчесона «Система моральной философии» (1755) расширяет эту интуицию до эстетических, психологических и политических сфер. Мир внутренних чувств оказывается безусловным фундаментом всей культуры. Этот путь понимания культуры как самодостаточного человеческого мира уводит от многих тупиков экстернализма, от выведения ценностей из внешних человеку данностей, но ставит вопрос о критериях различения моральной воли и произвола, который в рамках этого воззрения решить не удается.
Классикой британской версии Просвещения стали концепции Д. Юма (1711–1776), завершившего логическое развитие эмпиризма, и А. Смита (1723–1790), создателя политэкономии Модернитета. В «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) Юм, во многом следуя за Хатчесоном, осуществляет гораздо более радикальный демонтаж рационализма, оставляя во власти человека лишь способность ассоциировать внешние данные, создавая случайные, но практически устойчивые связи. Знание при этом приобретает статус веры, мораль — статус «диспетчера» аффектов, свобода — иллюзии, порожденной незнанием. Однако в эстетике (которую тогда называли «учение о вкусе» и «критика») этот радикализм заметно смягчается, и в этом есть определенная логика. В старой культуре просветителям виделась система безжизненных догматических конструкций. За ними маячил призрак фанатизма, которому в свое время были принесены слишком большие жертвы. Пафос британского Просвещения в том, чтобы вернуть культуру к живой естественной конкретности, укоренить ее в природе человека. Эстетическая сфера идеально отвечала этому замыслу: в ней непосредственно чувственное, эмоциональное соединяется с формальным и общезначимым. Поэтому просветители так много сил прилагают к разгадке феноменов прекрасного и возвышенного. Юм и идущий по его пути Смит считают, что человеку свойственна «симпатия»: способность сопереживать и сострадать. Эта способность выводит людей из замкнутости в себе и даже может делать из них альтруистов. Поэтому и человеческое общество созидается не долгом, не законом и не утилитарным договором, а естественным тяготением людей друг к другу. Симпатия может также соединять прекрасное и полезное: та целесообразность, которую можно в этом усмотреть — своего рода переживание смысла, дает нам приятные чувства, составляющие эффект искусства.
Как ни странно, историческая мысль несколько отставала от моралистики и эстетики Просвещения. Но все же мы можем констатировать рождение в это время новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного повествования к причинно-следственному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов, институтов и культуры не в последнюю очередь было связано с пересмотром и адаптацией опыта античных историков. Чрезвычайно показателен в этом отношении труд Э. Гиббона (1737–1794) «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим — образцовое воплощение политической свободы, гражданской добродетели и могучей культуры — становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вредоносности христианства для античной культуры попадает в резонанс с антиклерикальными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства, пронизывающая книгу Гиббона, также оказалась востребованной новоевропейским историческим сознанием. Это не так уж парадоксально, поскольку открытие культуры как предмета научной мысли требует, чтобы эту предметность разместили не в заоблачном мире вечных ценностей, а в посюстороннем мире с его ритмами расцвета и упадка.
Во французском Просвещении канон культурологической мысли был задан Шарлем Луи Монтескье (1689–1755). Уже в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (1734) он выявляет замысел теории исторического процесса, а его путешествие по Европе в 1728–1731 гг. можно рассматривать как своего рода «полевое исследование» обычаев, климата, нравов и политического устройства разных стран. В книге «О Духе законов» (1748), имевшей феноменальный успех, он в живой литературной форме, свободно странствуя по временам и пространствам, развивает свое знаменитое учение о «географическом детерминизме». Анализируя главную для него проблему — обусловленность политического устройства, названную им «духом законов», — Монтескье выводит своего рода формулу суммы отношений законов страны к ее климату, географическим условиям, нравам, обычаям, вере, благосостоянию и численности населения, экономической деятельности и т. п. Монтескье одним из первых пытается понять общество как систему со структурно связанными элементами. Существенно, что одним из определяющих элементов он считал «страсти» — эмоциональные доминанты, которые обеспечивают обществу стабильность. В республике это добродетель, в монархии — честь, в деспотии — страх. Ослабление этих руководящих страстей ведет к гибели политической системы. Но основным источником детерминации он считал географическую среду, главными элементами которой были климат, почва и рельеф. Климат и почва определяют душевный склад народа, а рельеф влияет на размеры территории. Экономическая составляющая также преломлена у Монтескье через призму географии: характер почвы — плодородный или неплодородный — формирует виды экономической активности и влияет на уровень богатства нации. Сама идея причинной связи природной среды, общества и культуры оказалась весьма креативной, несмотря на всю ее наивность и «натяжки», особенно если вспомнить, что в то время преобладали две старинные объяснительные модели: религиозная телеология и героический волюнтаризм.
Вольтер (1694–1778), в отличие Монтескье, полагавшего, что исторически детерминированные культуры имеют естественные пределы прогресса, считал, что «нравы и дух» народов могут изменяться быстро и радикально. Вольтер был убежден, что политическая и духовная культура могут прогрессировать в любых географических условиях. Одним из первых историков Просвещения он рассматривает эволюцию культуры как процесс, обусловленный собственными внутренними законами, а не вечными «параметрами» среды и неизменной морали. В ряде исторических сочинений — особенно в «Опыте о нравах и духе народов» (1769) с его методологическим введением, названным новым для того времени словосочетанием «Философия истории», — Вольтер выдвигает свое новаторское понимание культурно-исторического процесса. С одной стороны, он указывает на необходимость очистки истории от мифов и беллетристики, формулирует задачу создания для нее эмпирической базы из фактов. С другой, под лозунгом «пирронизма в истории» предлагает и сами факты проверять с помощью критики письменных источников и материальных артефактов, чтобы избежать того, что мы сегодня назвали бы идеологизированием. Вольтер весьма существенно пересматривает саму предметность исторического исследования.
Историк должен изучать жизнь народов, а не властителей и героев; понимать духовный облик нации он должен, учитывая всю культуру народа как целое, изучая науку, философию, искусство, право, быт и т. п. в их взаимном влиянии. Религия для Вольтера — лишь одна (и не слишком им чтимая) из частей культуры. Для понимания хода событий важно изучение экономической и материальной культуры человечества, причем всего человечества как единого мирового сообщества. Вольтер постулирует задачу преодоления европоцентризма и создания всемирной истории. В его собственных исторических трудах мы встречаем очерки арабской, индийской, американской, китайской культур, которые для него уже не просто экзотический фон, а равноправный с Европой субъект истории, столь же способный двигаться по пути исторического прогресса.
Вместо внешней детерминации культуры — будь то природа или божественное провидение — Вольтер предлагает рассматривать внутренние причинно-следственные связи. При этом как движущую силу истории он рассматривает человеческие «мнения»: то, что мы назвали бы ментальностью. Так же, как и Вико, он считает, что историю делают люди, а не безличный фатум. Подчеркнем, что вольтеровские «мнения» — это не абстрактные идеи и не те аффективные силы, «страсти» и «интересы», на которые обращали внимание историки прошлого. По сути, речь у Вольтера идет о комплексном содержании общественного сознания, которое возникает в результате внедрения в массы достижений отдельных индивидов, умеющих влиять на народное сознание средствами убеждения. Отсюда уверенность Вольтера в моральном долге просветительской элиты перед народом и ее ответственности перед историей. Вольтеру и его последователям виделся плодотворный союз мудрецов-просветителей и носителей власти, который очистит коллективное сознание от «ложных мнений». «Ложные мнения» не могут конкурировать с истиной и потому прибегают к насилию, в чем и состоит главная драма мировой истории. Вольтер не придерживался «теории заговора» и не считал, что «ложные мнения» — продукт злого и корыстного умысла. Однако главным источником деструктивных «ложных мнений» он считал религию, а точнее, церковь как исторический институт, ответственный за ложное толкование истин веры. Пессимистично оценивая наличные результаты истории, Вольтер все же уповает на то, что «царство разума» — это нормальное состояние человечества, к которому культура движется без предопределения, но с необходимостью, подобной законами природы.
Противоположным полюсом просветительского понимания культуры становится учение Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). В знаменитых «Рассуждениях о науках и искусствах» (1750) Руссо впервые высказал свою главную интуицию: развитие цивилизации
не только не способствует «очищению нравов», но и наносит добродетели непоправимый вред, вытесняя естественную доброту, гармонию с природой и простоту. Променяв «естественное состояние» на «общественное», человек утратил близость к природе, отгородился от нее социальными институтами, промышленностью, науками и искусствами, попав тем самым под власть порока. В работе «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Руссо главным источником зла признает частную собственность, которая лишает человечество невинности, порождает разрушительные страсти и неравенство. Однако, поскольку вернуться к первозданному состоянию уже нельзя, человечество должно нейтрализовать яд цивилизации добродетелями гражданского общества, в котором собственность превращает людей в ответственных граждан правового государства. Такое общество возникает в результате общественного социального договора, когда люди уступают часть своих суверенных прав государству в обмен на охрану свободы и справедливости. Таков акт «общей» воли. Это не то же самое, что воля «большинства», которая может оказаться произволом. Руссоистская версия теории общественного договора содержит в себе не только политический смысл, но и концепцию культуры: несмотря на свой культ «сердца» и непосредственности, Руссо сохраняет в культуре нормативный элемент, то разумно-«общее», что делает народ сувереном и предохраняет культуру от произвола суммы неразумий. В романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) Руссо дополняет общественный идеал эмоционально-психологическим: защититься от цивилизации может человек, обладающий любящей и тяготеющей к природе «чувствительной» душой. Такую душу можно воспитать, развивая добрые природные задатки («врожденную нравственность»), которыми одинаково одарены все люди, — свое педагогическое учение Руссо изложил в романе «Эмиль» (1762). В приложении к роману («Исповедание веры савойского викария») Руссо также предлагает извлечь из глубин души «религию сердца», не нуждающуюся в искусственной догматике и формальном попечении церкви, — «гражданскую» религию, интегрирующую людей на основе таких естественных ценностей, как вера в бессмертие души и конечное торжество добра. В «Исповеди» (1782–1789) Руссо применяет свои учения к истории собственной души с таким радикализмом и откровенностью, которых со времен Блаженного Августина не знала европейская традиция. Идеи Руссо стали своего рода контрпросветительской программой: критика урбанизма и холодной рациональности, культ природы, искренности, непосредственности, утверждение права на непохожесть и своеобычность, — все это вошло в фонд альтернативных ценностей культуры Нового времени, каковой надолго стал постоянным источником аргументов для культуркритики. Протест Руссо против цивилизации и его идеал «естественного человека» имели невероятный успех и стали фактором, напрямую влияющим на общественную историю.
Д. Дидро (1713–1784) придает «культурологическому дискурсу» новые аспекты (хотя нужно учесть некоторую «отложенность» его влияния: ряд важных произведений Дидро не вышел при жизни). Эстетической теме, которая всегда была важной для Просвещения, Дидро сообщает дополнительный смысл: анализ искусства становится для него методом интерпретации культуры в целом. В своей теории сценического искусства он предлагает — в рамках нового жанра «мещанской драмы» — перейти к воспитанию публики через театральный анализ культурно-социальных конфликтов в семьях «третьего сословия» и созданию «драмы положений» (предполагающей, по сути, прояснение структуры объективных ситуаций), в отличие от классической «драмы характеров». В «Парадоксе об актере» Дидро описывает метод своего рода культурной эмпатии, предполагающий аналитическую дистанцию между изображаемым аффективным состоянием и личностью самого актера. В диалогах «Племянник Рамо» и «Жак-фаталист и его хозяин» Дидро переносит свою теорию «драмы положений» на драму идей: в диалогах блистательно вскрывается диалектическая подвижность идейно-культурных позиций и их связь с личностью носителя идей. (Нелишним будет отметить, что Гегель использовал метод Дидро в некоторых своих гештальтах.) Обзоры парижских «Салонов» Дидро, публиковавшиеся в рукописной газете с 1759 по 1781 г., также стали поворотным моментом в просвещенческой эстетике: здесь Дидро выступает не только как один из основоположников жанра художественной критики, но и как культуролог, устанавливающий соответствия между разнородными феноменами культуры. Проповедуя в своей эстетике верность природе, Дидро вносит в эту просветительскую аксиому весьма существенную коррекцию: поскольку задача художника — показать красоту добродетели, которая сама по себе встречается более чем редко, то искусству необходимо выявлять и изображать «чудесное», т. е. редкое, но возможное и желательное. Как прозаик и драматург Дидро и в самом деле показывает, что самое «чудесное» — это нерастворенность человека в природе, его непокорность среде. Собственно, это уже альтернативная Просвещению программа культуры.
Особо надо сказать о Дидро как об основателе, авторе и редакторе (совместно с Д'Аламбером) 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751–1780). Сам проект стал культурным феноменом. Это не только программный документ эпохи Просвещения, но и универсальная модель культуры, как она видится лучшим умам Франции. Благодаря выдающемуся мастерству издателей «Энциклопедия» убедительно изобразила мир культуры как поступательное взаимодействие наук, искусств, техники и политической практики. При этом она сама стала интеллектуальным клубом, дискуссионным пространством и социальным институтом, посредничающим между носителями власти и культурной элитой. Неудивительно, что наша Екатерина Великая предложила издателям перенести проект в Россию, правильно оценив перспективы этой эффективной «культурной фабрики» (которая, кроме всего прочего, принесла доход от продажи в 7,5 млн ливров).
В целом преобладающая модель просвещенческого понимания культуры — это учение о непрерывном прогрессе человечества, опирающегося на всестороннее развитие разума. В наиболее зрелых формах мы находим ее у А. Р. Тюрго (1727–1781) и Ж. А. Н. Кондорсе (1743–1794). Тюрго в «Рассуждении о всемирной истории» (1750–1751) подчеркивает особую роль разделения труда в прогрессе цивилизации, ставшего возможным при переходе от собирательства и охоты к земледелию, которое обеспечило «прибавочный продукт», достаточный для занятия «механическими искусствами» (т. е. ремеслами) и умственной работой, что и обусловило быстрый подъем культуры. Тюрго напрямую связывает «механические искусства, торговлю, гражданскую жизнь» с интеллектуальной культурой и образованностью, утверждая, что они являются своего рода порождающей силой цивилизации. В то же время он избегает установления между ними прямой зависимости. На примере Средневековья Тюрго показывает, что между накоплением изобретений и расцветом «наук и нравов» существует временная дистанция, которая нужна для того, чтобы извлечь из «механических искусств» с помощью опытов и размышления физическое и философское знание. Выдвигая идею линейного прогресса, он рисует эту линию прерывистой, признавая возможность остановок, кризисов и революций. Важнейшим условием прогресса Тюрго считает сохранение свободы экономической деятельности. В написанной для «Энциклопедии» статье «Существование» он (по-видимому, впервые) прочертил три стадии общественного развития — религиозную, спекулятивную и научную. Эта схема впоследствии, благодаря Сен-Симону и Конту, станет очень влиятельным культурологическим концептом.
Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) дает резюме просветительской традиции понимания культуры как прогресса. Он выделяет в истории человечества десять эпох, считая современность девятой переходной эпохой, готовящей десятую — «царство разума», — которая решит основные задачи истории: «уничтожение неравенства между нациями», «прогресс равенства классами» и «совершенствование человека». Кондорсе провидчески оговаривается, что три главных неравенства — богатства, наследства и образования — должны уменьшаться, но не уничтожаться, поскольку по своей природе они естественны. Искореняя их окончательно, люди могут породить более страшное противоестественное неравенство. В результате разумной деятельности по минимизации неравенства должно появиться, по Кондорсе, «взаимополезное сотрудничество», которое прекратит соперничество и войны. Это, в свою очередь, откроет путь к физическому и моральному усовершенствованию человека.
Лекция 3 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ГЕРМАНИИ XVIII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в
Немецкое Просвещение некоторое время находилось в фарватере английского и французского, но его более поздний расцвет стал также фактором силы: и задачи, и их решение были зрелым плодом духовного развития новой Европы. К тому же Германия этого времени была раздробленным и сложно устроенным политическим телом с двумя основными конфессиями, немногими центрами национальной «гравитации», слабой экономикой, весьма разными взглядами и настроениями бесчисленных властителей. Но культурный капитал и историческое самосознание были более чем значительны. Это обусловило интенсивнейшую духовную жизнь тогдашней Германии. Как и в России, в Германии Просвещение едва ли не главным центром имело волю государя и собранных вокруг него «экспертов». Такой влиятельной и хорошо интегрированной интеллигенции, как во Франции, в немецких землях не существовало. Однако преодоление этих трудностей со временем превратило Германию в авангард теоретической мысли, направленной на решение самых острых духовных коллизий позднего Просвещения. Неудивительно, что и окончательное формирование теории культуры как ветви гуманитарной мысли произошло в Германии во второй половине XVIII в. (Теорию культуры в данном случае правильнее называть не культурологией, что было бы анахронизмом, а культурфилософией
.)
С выходом в свет труда И. И. Винкельмана (1717–1768) «Мысли о подражании произведениям греческой живописи и скульптуры» (1755) начинается новый этап культурной рефлексии, который был не только выбором «немецкого пути» Просвещения, но и общеевропейским поворотом. У Винкельмана за хрестоматийной формулой «благородной простоты и спокойного величия» греческого искусства скрывается нетривиальная теоретическая основа. Мы можем усмотреть здесь латентную полемику с принятыми в XVIII в. оценками. Классическим каноном в это время по-прежнему считалось римское искусство в его не столь уж многочисленных и в основном эллинистических образцах (хотя об этом уже шла полемика). Расцвет этнографии и археологии, позволивший шаг за шагом приблизиться к исторической плоти Греции и Рима, подталкивал к переоценке ценностей. Винкель-ман не просто предлагает переориентироваться на греческий канон, но и встраивает его в культурное целое. Греческое искусство становится пластической эмблемой ценностей своей цивилизации: демократии, гуманизма, разума, меры, одухотворенной телесности… Вернемся к формуле «благородной простоты и спокойного величия». Принцип простоты в винкельмановском контексте — это вызов поэтике барокко. Предикат благородства — протест против сентиментального мещанского демократизма с его культом добрых нравов «третьего сословия». Принцип величия — спор с приземленным натурализмом Просвещения. Предикат спокойствия — коррекция категории «возвышенного», которая зачастую в эстетике Просвещения (а позже штюрмерства) трактовалась как катастрофический революционный слом устоев. В дальнейшем критическая немецкая мысль двинется по всем этим четырем направлениям. Сама Античность для Винкельмана становится каноном, задающим ритм и смысл истории. Вслед за Вазари и Вико (с идеями которого он был знаком) Винкельман пытается выстроить периодизацию культурных эпох, но его схема уже несколько сложнее, чем биоморфная модель предшественников (детство, зрелость, упадок). Винкельман выделяет следующие четыре эпохи:
1) древнейшая (или архаическая): от начала до Фидия;
2) высокая: Фидий и его время;
3) изящная (или «элегантная»): Пракситель, Лисипп, Апеллес;
4) подражательная: греко-римская.
Этот ритм он усматривает и в искусстве Итальянского Возрождения: 1) до Рафаэля; 2) Рафаэль; 3) Корреджо; 4) братья Карраччи. В дальнейшем историческая культурология обнаружит, что применимость этой схемы выходит далеко за рамки истории искусства: скорее можно говорить об универсальной модели смены культурных периодов. Возможно, что Винкельман был первым, кто ввел понятие «стиль» в смысле характеристики художественной эпохи. Еще решительнее можно утверждать, что он впервые говорит о произведении искусства на новом языке: вместо прямолинейного описания предмета и оценочных эпитетов мы встречаем попытку реконструировать его «внутреннюю форму», осуществить своеобразный перевод с языка художественной техники на язык поэтики.
У Винкельмана мы уже встречаем такие средства интерпретации искусства, как метод описания культуры и ее типов (их можно использовать в гораздо более широком плане). Еще дальше по этому пути пошел Г. Э. Лессинг (1729–1781). Размежевание «древних» и «новых», о котором шла речь выше, до некоторой степени может пригодиться при сравнении Винкельмана и Лессинга. Неоклассицизм первого противостоит новаторству второго. Лессинг пытается ограничить власть античного канона, для чего создает свою теорию различения пространственных и временных искусств. В «Лаокооне» (1766) он проводит границу между литературой и зрительными искусствами, показывая, что мир пластической красоты не в состоянии выразить подвижную реальность мира человеческой воли, действия, истории. Это может сделать «поэзия» (т. е. совокупность вербальных искусств), которая в состоянии передать временную последовательность, имеет возможность разбивать свое повествование на части и фрагменты и не прикована так жестко к «идеалу красоты». На примере знаменитой скульптурной группы Лессинг показывает, что верность этому идеалу заставила скульпторов ослабить изображение страдания. Литература же в состоянии выражать эстетику страдания и даже безобразия. Такое расширение эстетического спектра было весьма значимым для самооправдания культуры Нового времени. Лессинг утверждает мысль, которая сейчас нам не кажется такой революционной, каковой она была на самом деле: литература не создает картинки с помощью слов, она является не ослабленной версией изобразительного искусства, а другим художественным миром, который более значим для современности с ее динамикой. Таким же историческим оправданием для театра была «Гамбургская драматургия» (1767–1769); с нее, в частности, начинается немецкий культ Шекспира, важный для самосознания эпохи. В этой работе Лессинг также прочертил границу между старой и новой эстетикой, говоря о неаристотелевском понимании «всеобщего характера»: современности важно изобразить не столько тип с его усредненными характеристиками, сколько воплощенную идею, которая не исключает неповторимой индивидуальности. Наконец, большую роль в воспитании сознания культурно-религиозной толерантности сыграла драма «Натан Мудрый» (1779): тема «диалога культур» звучит здесь — без экзотики и скрытого европоцентристского высокомерия — как предупреждение и напоминание Просвещению о его миссии.
И. Г. Гердер (1744–1803), подхватывая эстафету немецкой просветительской мысли, получает в наследство большой ресурс размышлений о культуре и связывает его в такую целостность, которая уже может претендовать на статус науки о культуре. В ранних работах (среди прочих в трактате «О происхождении языка», 1772) он разрабатывает проблемы эстетики и языкознания. Его учение о «духе народа», который выражается в искусстве и — наиболее чисто — в народной поэзии, стоит у истоков фольклористики. Работа о происхождении языка дает одну из первых моделей естественного становления языка в ходе истории. Гердер отрицает генетическую субординацию языка и мышления, полагая, что они развиваются во взаимообусловленном единстве. Он не только отвергает богоданность языка, но и, полемизируя с Конди-льяком и Руссо, утверждает его собственно человеческую специфику, находимую в мысли, практике и общественности. В «Идеях к философии истории человечества» (опубликованы в 1784–1791 гг.) он создает обширную картину эволюции природы от неорганической материи до высших форм человеческой культуры. Здесь Гердер реализовал свой проект универсальной философской истории человечества. Труд состоит из 20 книг (и плана заключительных пяти книг). В них Гердер, суммируя достижения современных ему космологии, биологии, антропологии, географии, этнографии, истории дает изображение поэтапного становления человечества. В центре его внимания — процесс мирового развития. Общий порядок природы Гердер понимает как ступенчатое поступательное развитие совершенствующихся организмов от неорганической материи через мир растений и животных к человеку и — в будущее — к сверхчувственной «мировой душе». Как свободная и разумная сущность человек представляет собой вершину сотворенной божественным духом природы. Критикуя телеологию, Гердер подчеркивает значение воздействия внешних факторов (совокупность которых он называет климатом) и считает достаточным для понимания истории ответить на вопрос «почему?», не задаваясь вопросом «для чего?» В то же время он признает ведущей силой истории внутренние, «органические», силы, главная из которых — стремление к созиданию общества. Основной сплачивающей силой общества Гердер считает культуру, внутренней сущностью которой является язык. Представляет интерес предложенная Гердером концепция «всеобщего мира». В ней сделан упор не на политическом договоре «верхов», как в большинстве аналогичных трактатов XVIII в., а на нравственном воспитании общественности. В отличие от своей ранней критики цивилизации, близкой по духу Руссо, Гердер возвращается в «Идеях» к историческому оптимизму Просвещения и видит в прогрессирующем развитии человечества нарастание гуманизма, который понимается им как расцвет принципа личности и обретение индивидом душевной гармонии и счастья. Книга вызвала интенсивную полемику в кругах просветителей. Гёте ее приветствовал, Кант критиковал ее эвдемонизм и отсутствие философской методологии, но отчасти благодаря самой полемике просветительский дискурс о культуре приобрел именно гердеровский «формат». Гердера благодаря «Идеям» можно считать, наряду с Вико и Кантом, отцом культурологии как науки. В целом работа сыграла роль манифеста просвещенческого историзма.
Поздний Гердер разрабатывает своеобразную культурную антропологию и политическую философию в «Письмах для поощрения гуманности» (1793–1797). В этой работе он, в частности, выдвигает свою версию учения о «вечном мире», к которому должны привести не договоры властей, а гуманистическое воспитание народа, торговля и здоровый прагматизм. В работах «Метакритика чистого разума» (1799) и «Каллигона» (1800) Гердер вступает в ожесточенную, но довольно поверхностную полемику с Кантом. «Каллигона» содержит одну из первых формулировок позитивистской эстетики. В рамках позднего этапа немецкого Просвещения учение Гердера оказалось в изоляции. Будучи близким по настроению к пантеистической натурфилософии Гёте, оно противоречило ему рационалистическим доктринерством и религиозным духом. Оно вступило в конфликт с кантовской версией природы человека и смысла истории: принципы счастья индивидуума (Гердер) и благоденствия общества в государстве (Кант) оказались несовместимыми. Ранних романтиков отталкивал наивный оптимизм Гердера. Несмотря на это мировоззрение Гердера стало арсеналом тем, идей и творческих импульсов для самых разных направлений немецкой мысли: для романтической эстетики и натурфилософии, гумбольдтианского языкознания, диалектической историософии Фихте и Гегеля, антропологии Фейербаха, герменевтики Дильтея, философии жизни, либеральной протестантской теологии.
Об одном из течений, у истоков которых стоял Гердер, надо сказать особо. В литературно-эстетическом движении «Буря и натиск»
бунтарский дух соединился с руссоизмом, литературными новациями Клопштока и историзмом Гердера. Среди тех, кто так или иначе был затронут этой молодежной субкультурой, были Бюргер, Ленц, Клин-гер, Шубарт, Гейнзе, Фосс, Гёте, Шиллер. У штюрмеров появляется идейный синдром, который не раз проявит себя в истории: индивидуалистическая критика цивилизации, культ непосредственности, самовыражения и соединение всего этого с преклонением перед стихией национального, народного, фольклорного, традиционного. «Бурю и натиск» можно рассматривать как часть общего потока Контрпросвещения, но именно немецкая его версия оказалась особенно важной для становления наук о культуре. Движение довольно быстро исчерпало себя из-за недостатка конструктивных идей, но штюрмерское наследство вошло как составной элемент в европейский романтизм.
И. В. Гёте (1749–1832) фокусирует в своем творчестве многие тенденции немецкого Просвещения, и хотя специальной культурологической доктрины мы у него не находим, именно его идеи оказались в числе самых востребованных позднейшей традицией. В годы штюр-мерской молодости Гёте был адептом национальной и личной самобытности: в народной поэзии, готической архитектуре («О немецком зодчестве», 1772), в творчестве таких мировых гениев, как Шекспир, он видел противовес оцепеневшей нормативности современной культуры и власти. Преодолев штюрмерство, Гёте приступает к выработке новой системы ценностей. В конце 1780-х гг. кристаллизуется идеология веймарского классицизма, которую разрабатывают Шиллер и Гёте — сначала порознь, а затем в интенсивном и плодотворном сотрудничестве. Винкельмановский идеал гармонической личности наполняется натурфилософскими и историософскими идеями, в основе которых лежат принципы «меры», «середины» и «здоровья». Дальше всего этот идеал от мещанской умеренности: Гёте героизирует способность носителя культуры вбирать опыт прошлого и находит бытийный центр, равноудаленный от всех крайностей. В романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (изд. 1795–1796) Гёте иллюстрирует идеи веймарского классицизма историей духовного становления молодого человека, прошедшего путь от эстетизма «театрального призвания» до осознанного выбора практического поприща.
В этот период Гёте вырабатывает свою эстетику, которая, как оказалось впоследствии, содержала большой культурологический потенциал. Отправной точкой для Гёте является «природа» — главный концепт его мировоззрения, живое, развивающееся, надличное бытие, включающее в себя все сущее как свои части. Искусство, по Гёте, вместе со своим творцом, человеком, принадлежит природе, но в своем духовном аспекте оно все же «возвышается» над ней и обретает право соединять «рассеянные в природе моменты», придавая им «высшее значение и достоинство» («О правде и правдоподобии произведений искусства», 1797). Но, чтобы применить это право, художник должен найти правильную связь между всеобщим и особенным. Гёте решает таким образом классическую задачу Просвещения: задачу выхода из двух тупиков — абстрактной нормативности и слепой эмпиричности. В работе «Простое подражание природе, манера, стиль» (1789) он различает три заглавных типа творчества, которые относятся друг к другу как два полюса к середине. «Простое подражание природе» воспроизводит явления в меру своего мастерства, не чувствуя духа целого; художник здесь проявляет спокойное утверждение сущего, его «любовное созерцание». «Манера» выражает особенность художественной индивидуальности автора, жертвуя конкретными деталями и подчиняя их общему замыслу; происходит «восприятие явлений подвижной и одаренной душой». «Стиль» проникает в саму сущность вещей, не выходя за пределы «видимых и осязаемых образов»; он «покоится на глубочайших твердынях познания», но не за счет абстракций, а благодаря найденному центральному образу, которому подчиняются частности. «Стиль» оказывается таким соединением противоположностей, которое возводит их на более высокий уровень, где объективное и субъективное примиряются. В поздней работе «Искусство и древность» (1821–1826) Гёте дает еще одно емкое пояснение: «Огромная разница, подыскивает ли поэт особенное для всеобщего или видит в особенном всеобщее. В первом случае возникает аллегория, где особенное служит лишь примером, случаем всеобщего; второй случай характеризует собственную природу поэзии, она передает особенное, не думая о всеобщем, не указывая на него. Кто, однако, схватывает это живое особенное рано или поздно, не замечая, получает одновременно и всеобщее». Здесь перед нами не что иное, как формулировка гетев-ского символизма, который окажет на культурологию немалое влияние.