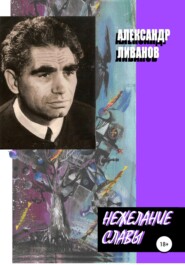По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солнце на полдень
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Родителей своих все любят. Хотя, по правде сказать, потом оказывается, не все они стоят этого… Любим, уважаем, потом жалеем, отдаем им долг. А у меня… Жадные у меня были предки! Над свечечкой дрожали, когда я книгу читал. Все в кубышку! У бати моего было пят-над-цать тысяч! В швейцарском банке! Не спали ночами, шептались в постели, молились. Я все слышал. И все тыщи ухнули, когда революция началась. Думаешь, батя мой унялся? Опять все копил! И все на черный день. Если все на черный день – так и светлого дня всю жизнь не увидишь. Да и матушка такая же была. Жадина…
– А ты не жадный, Шура?
– Это ты к чему? Что деньги коплю?.. Я в Одессу подамся! На корабль поступлю – хоть матросом, хоть юнгой. Ведь на первую пору – на харчи нужно? Мне сказали, если несколько лет проплавать матросом, потом в мореходку возьмут. Пущай хоть родители в Соловках…
– А вот отец Петр – тоже поп. А почему его не послали в Соловки? То есть почему твоего отца…
Глаза Шуры вдруг загорелись, вспыхнули злыми огоньками. Он зыркнул на меня, будто я был ему злейший враг. На темных от загара щеках проступил румянец.
– А потому, что неумный мой батя был! Жадные – они все неумные. Пришли закрывать церковь, а он сельчан на такую агитацию поднял, что те в топоры: «За веру православную!» И смех и грех. Бате та вера – до фени. Ему деньги прихожан нужны были. Грошики, копейки, пятаки крестьянские. Медь возил в город, у лавочников менял на бумаги, на кредитки… В общем, все правильно, Санька. Воз-мез-дие! Как у великого поэта Блока!.. А ты счастливей меня, у тебя, судя по всему и родители людьми были, и детство настоящее было. Батя у тебя – кто? Крестьянин, солдат, калека… Это многих славных путь. А мне вот – все сначала начинать надо! Ничего еще у меня настоящего не было. А жить надо так – э-эх! – чтоб потом умереть не жалко было! Вот я понимаю поэта! Скажем, вот это…
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Мял цветы! Не рвал, а мял. Застенчивое, мягкое, задумчивое – сокровенное – слово! Ходил по земле, влюбленный в жизнь, веселый и юный, беспечный и цветущий… Поэзию понимать нужно! Мял цветы – потому, что задумчиво, в мечте, нечаянно… Если случалось женщину обидеть – тоже нечаянно. Хотел радовать, чтоб жизнь неслась нескончаемо в этих цветущих лугах, среди яркого июньского разнотравья, такая же вечно цветущая, красивая и естественная, незлобивая и некорыстная, как сама природа! Не лежал – «валялся на траве» – тоже нечаянно, как мальчишка или как «братья меньшие», зверье. Какая любовь к жизни, к природе, в которой все живое! Надо жить не для жадности и денег – для неба и трав, для цветов и женщин… Вот это – молитва!.. Не богу, не мамоне: жизни! Так ли жил мой родитель? Эх!.. Одним коротким, нет, кротким и застенчивым, как голос котенка, – «мял» – как много говорит поэт, там, где ждем грубое, взрывное, агрессивное, – «рвал»! И каждое слово золотое!..
Поэты, брат, мудрые люди, они как бы ближе к природе, ее естественности, они страдальчески чувствуют красоту, до самозабвения любят жизнь, понимают ее счастье… Они учат жизни! И ты учись понимать поэзию! Она одна знает настоящие ценности жизни: свободу, любовь… И труд! Поэты – великие труженики. Труд чувств, мысли – души. Это только глупцы представляют себе поэтов беспечными людьми – закатывают глаза, повздыхают и заговорят стихами. Вот я, поповский сын, почему я горой за нашу жизнь? Потому, что она труд подняла высоко. Пахаря и поэта, кузнеца и землекопа. А я к машинам хочу! Я их чувствую как поэзию, техника для меня – что стихи. Работать хочу – аж руки зудятся. Поэзия – она за человека труда. Она против тех, кто по убогости и бездарности лишает жизнь человеческих ценностей… Знаешь, что скажу тебе, в подоснове новой жизни – чувство поэзии, чувство высшей правды! Жизнь наша породнила труд и поэзию…
Недавно смотрел я кино «Поэт и царь». Что-то из сказанного Шурой и я угадывал в этом кино. А ребята еще спорили – мировое или не мировое оно. По-моему – все же мировое! Даже в названии. Не Пушкин и Николай, а как бы вообще: поэзия – и тирания, как бы вечный поединок их! И тетя Клава согласилась со мной… И вообще, я думаю, – если кино настоящее, оно всегда – мировое!
– А ты меня научишь понимать поэзию, Шура?
– Э… Этому, тезка, научить нельзя. Как, скажем, невозможно научить любви, совести, таланту. Это тоже – талант, – искоса глянув на меня, улыбнулся Шура. Что-то, мне показалось, ревниво-затаенное обозначилось в складке его губ. Шура был сейчас очень далеко где-то от меня. Хоть зови его, как в лесу – а-у-у! Странно, я был рядом с Шурой, и мне страстно захотелось к нему, к его незримому «где-то», к его тайной нездешности…
– Это стихи великого поэта Блока? А, Шура? Скажи…
– Нет, Есенина. Тоже великого поэта… Ладно. Кто из поэзии делает бе-се-ду, тот в ней ни бельмеса не смыслит. Вроде тети Клавы нашей. Охи, ахи… Поэзия для души, а не для трепа… Ты думаешь: стишки – это так, забава, интересно, мол, почитать или это… де-кла-мировать! Настоящие стихи – они учат нашего брата быть человеком. «Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». Это – Пушкин! Ты думаешь, что поэт тот, кто пишет стихи?.. Нет, это призвание природы! Почитай пушкинского «Пророка»! Стихи… Вон барон Розен тоже писал стихи. И что же? Он – стихотворец… А Пушкин – поэт! Будете в школе сочинения писать, учительница все скажет вам. Мол, «поэт – пророк», он – «сын гармонии», он «творец культуры», что поэзия, мол, «созидает дух жизни»… Что поэту мешает чернь, а жизнь его – служение… У вас хорошая учительница в школе?.. Она все скажет. Запомнить – просто, осмыслить и понять – труднее! В жизни – всякое бывает, вон даже – голод… А она, поэзия, она – как вечная весна! И знаешь, знаешь, – она учит бесстрашию… Разве мало в жизни подонков? Черни этой самой всегда хватает, она только покраску меняет. Она стремится все иметь, потому что ничего не может уметь. И хитрит, и ползет, и жалит… А ты не бойся жизни, тезка!.. И старайся уметь, а не иметь. Ты очень любил маму – значит, будешь любить поэзию. А в ней – душа народа, душа России! Не бойся жизни… Счастья нет, а есть покой и воля… Тоже Пушкин! Покой не в смысле безделья, руки на брюхе после сытного обеда… Нет, несуетность в труде, и воля в достижении неэгоистичной цели! Видишь, как поэзия учит, – не так, как иной учитель-зануда – свойски, дружески, интересно, не ради отметки в журнале: весело! Даже когда о печальном. Читай, думай, чтоб стать для поэта «читателем-другом»!
– Шура, а ты смог бы стать поэтом?
– Что ты!.. – даже слегка засмущался он. – Поэтом нужно родиться… – Мне показалось, что я вторгся в запретный угол души друга. Видать, дружбе особенно подобает быть бдительной, ей легче всего власть в грубость. «Превысить права, думая, что права!» Я отвел глаза от смущенного лица Шуры.
Кстати, о душе говорили и товарищ Полянская, и тетя Клава. Наставляя тетю Клаву, товарищ Полянская выступала: «Вы должны знать душу своих воспитанников!» «Знать душу – и означает – не лезть в душу», – отозвалась тетя Клава. Леман не сдержал улыбку – на одно лишь мгновенье, тут же стер ее. Заметил я – всегда ругает тетю Клаву за то, что та непокорствует и препирается с товарищем Полянской, а сам, чувствуется, на стороне тети Клавы. «Она – наш куратор!» – выговаривает Леман тете Клаве. «Ах, не повторяйте ее попугайщину! Надо же… Человек при деле говорит просто, естественно, образно. А безделью и мнимому делу всегда нужны слова мертвые, мнимовнушительные – пугающие!.. Аж римскую империю откопала!..» «Неужели – римскую?» – усомнился Леман. «А то нет? Оратор, оператор, прокуратор и… кур-р-ра-тор!.. Куриный император! Всем курам на смех!»
Это тетя Клава у нас научилась переиначивать неугодные ей слова, доведя их до бессмыслицы. А все же – что такое «куратор»? А вот, чтоб узнать слово, не переиначить его нужно, а вернуть к родне своей! Куры тут ни при чем. «Курорт», «куранты», «курс», – знать, такая здесь родня. И «куратор», видимо, человек, дающий направление делу… Вот она кто – товарищ Полянская! А тетя Клава не следует ее направлению… Вот из-за чего ломаются копья!
Как мало я еще знаю… Как много знает Шура. И почему он такой невеселый сейчас? От есенинских стихов, что ли? Стихи очень красивые. Печальные. А вот почему-то у меня на сердце от этих стихов вдруг стало светло-светло… Вижу солнечный день, поля в голубой ржи, в небе жаворонок. Лицо матери в улыбке… А можно мне, детдомовцу, читать великих поэтов? И Блока, и Есенина мы в школе не проходили… Странно, как-то спросил учительницу в школе – ее точно током дернуло. Даже рассердилась: «Тебе что – Демьяна Бедного, Безыменского, Жарова мало?» А потом еще долго почему-то косилась на меня, как на оборотня…
На углу Торговой и Белинской нас окликнула Маруся. Она живет в подвале одного многолюдного дома – в том же дворе, что и тетя Клава. Ну и дом!.. Весь он распух от пристроек, навесов, мансард и подвалов. Не дом – курятник, вот-вот развалится от старости и тесноты. По крыше – из заплатанной жести, из черепицы, из теса, из толя – голь на выдумку хитра! – и даже частью из камыша – и кошки опасаются прогуливаться. А какие в дому разыгрываются женские баталии, какая там клокочет соленая, южная словесность!
Маруся нас окликнула – мы бы ее не узнали – вся белая, вся улыбается. Словно окунули ее в бочку с медом, потом катали по перу. На хлопковом заводе Маруся имеет дело с очень сложными машинами. Даже имена у этих машин мудреные, иностранные… Да и машины, конечно, иностранные. Наверно, купленные на тот же хлеб, о котором дядька Михайло говорит «тю-тю». Машины покупают так спешно, их стараются так быстро пустить в дело, что некогда их одомашнить, дать нашенские имена. Поэтому в разговорах Маруси только И слышишь: «линтера», «джины», «оливеры»… Моя б воля – назвал бы их женскими именами: Маруся, Тетя Клава, Аллочка… Красиво было бы!
Тонки и разлетны черные брови Маруси, она молодая и красивая, особенно в красной косынке, которая, конечно, тоже вся в пуху и вате. Она заигрывает с Шурой, щекочет его, Шура краснеет, а Маруся хохочет. «Точишь на мне свои женские чары?» – не теряется все же Шура. Мол, он – не цель, а средство. Цель – Жора! Это даже мне ясно. Но почему же Шура краснеет – не похоже это на друга моего! Может, он влюблен в Марусю? Не отсюда ли стихи и всякое такое?..
Жора плавает на «Котовском» помощником кочегара. Жора настоящий моряк! Это он посоветовал Шуре податься в юнги или матросы, чтоб заработать право поступить в мореходку. Жора – комсомолец, он читает газеты, он разбирается в политике. Шура его уважает. Вот уж за кого он готов в огонь и в воду! Да вот Жора не требует никаких жертв. Маруся терпеливо ждет воскресенья в конце месяца. Тогда приходит к ней Жора из рейса. Уже три года встречаются Маруся и Жора. Тетя Клава говорит, что они – прекрасная пара. Три года встречаются! Под ручку пройдутся по парку, ну разве что еще изредка в кино вместе сходят. И больше – ни-ни… Это в порядке вещей. Они пока только жених и невеста. Вот когда женятся, когда будут жить вместе, тогда у них детишки пойдут… Это все почему-то мне каждый раз объясняет тетя Клава. Что-то она тут не договаривает, смущенно улыбается, надеясь на мою сообразительность. Она, видимо, считает очень правильным отношения Маруси и Жоры, этим примером и меня назидает как мужчину. Мне это почему-то не лестно, что тетя Клава меня считает мужчиной и словно готовым тоже вот-вот завести себе невесту – наподобие Жоры.
Вообще мне кажется, что тетя Клава не случайно меня избрала доверенным лицом для своих мыслей о тайнах между мужчиной и женщиной. Шура – насмешливый родственник, отец Петр – почитаемый родитель, к тому же он в преклонном возрасте, Леман с нею строг и на всякий случай недоверчив к поповне. А главное, ни у кого не хватает терпения выслушивать пространные речи тети Клавы! «Толстой сказал, Чехов сказал…». А Шура, например, тот и от себя умеет интересно сказать. Слушает еще тетю Клаву Панько. Да велика ли радость иметь духовником Глухаря? И еще мне кажется, что со мною тетя Клава часто забывается и попутно поверяет мне много из тех заветных мыслей, которые залежались без употребления на дне ее души, по существу будучи адресованными профессору, видно, дорогому для нее человеку, далекому и любимому супругу. Или, может, тетя Клава верит в перевоплощение душ, и для нее я чудотворно обращаюсь в такие минуты в профессора-супруга? Она, например, говорила мне, что любовь нужно нести сквозь жизнь, как красивую тайну двух сердец, не огрублять ее эгоизмом, что настоящая любовь – в разлуке, как костер на ветру, еще сильней разгорается, что любовь единственная, настоящая – высшая – религия! Это были, конечно, очень умные речи, вполне достойные, вероятно, профессорского внимания, – но я-то был ни при чем… Неужели тетя Клава могла хоть слабо понадеяться, что в моем лице обретет замену такому высокому вниманию?.. Нет, видно, не надеялась. Потому что то и дело вставляла – «ну, тебе это не понять», а с лица ее не сходила все та же застенчиво-виноватая улыбка, мочки ушей у нее от волнения делались пунцовыми, а когда совсем бывало распалялась своим красноречием, вдруг умолкала, жарко притиснув меня к себе. Поскольку она была высокого роста, ей для этого приходилось сильно наклоняться. И все же мой нос каждый раз приходился при этом на уровне большой пряжки от пояса тети Клавиной юбки. От пояса пахло клеенкой, от блузки – мар-ки-зе-то-вой – пахло духами. Да, любовь Маруси, чистоту которой особо каждый раз подчеркивала тетя Клава, была предметом ее постоянного восхищения! Чистая-нечистая любовь… Лучше я об этом расспрошу у Шуры… Дети, наверно, от чистой любви? А от нечистой?.. Нечистая сила, что ли?
– Ну что, две Сашки-замарашки? По барахолкам и толкучкам промышляем? – улыбнулась Маруся. – Смотрите мне: станете урками, я вас больше любить не буду! – Шуре она подала, как взрослому, руку; значит, сегодня обойдется без щекотки; по отношению ко мне Маруся ограничилась лишь тем, что растрепала мои волосы. Этим, каждый раз притом, она и мне выказывает свое расположение. – Вот сама получила за два дня хлеб, отнесла на толчок. К свадьбе денежки нужны! Платье – нужно, туфли – нужны, всякое другое. Чтоб не упрекнул женишок, что взял в одной рубашке…
– Я тебя и без рубашки взял бы! – вставляет Шура, по-взрослому стараясь поддержать разговор, краснеет, но не тушуется. И это нравится Марусе. «Краснеешь, значит, неиспорченный», – как-то сказала она Шуре. Если это правда, мне, выходит, вовсе нечего беспокоиться. Ведь я всегда краснею так, что хочется сквозь землю провалиться. Даже с Фросей, даже с Леманом. А сам Леман сказал, что краснеют от мягкосердечия и трепехливого воображения. Все – слабохарактерность, себялюбие, гордыня.
– Взять-то взял бы, да скоро бросил. Несерьезный ты, Шурка. Разве ты можешь быть опорой для женщины? Все шуточки у тебя на уме. А мой Жора – серьезный. Это главное в мужчине. Чтоб основательность была!.. Ты, конечно, ученый, а вот говоришь много… Кто много говорит, по-моему, и не заметит сам, что сбрешет…
Странно, уж, по-моему, большего шутника, чем Жора, и сыскать невозможно, и вдруг «серьезный»! Про хлеб – Маруся правду сказала. Она себе во всем отказывает, но дело не только в платье-туфлях. Тетя Клава говорила, что оба, и Жора, и Маруся, копят деньги на домик за городом. Где-нибудь на Забалке, или на далекой Военке, на Мельнице или за Валами и старой крепостью. Пусть какую-нибудь мазанку. «С милым дружком – и в шалаше рай». И то еще ничего. Человек за счастье считает, если работа есть. Биржу труда уже давно закрыли – с работой легче стало, не только членам профсоюза. А все же – увольнения и сокращения…
Иной раз Маруся работает по две смены, лишь бы заработать немного больше денег. Маруся – ударница и член профсоюза, ее не уволят даже по сокращению. И еще я знаю, что она получает молоко, поскольку у нее вредное производство.
– Ну как твои машины-линтера и джины? – спрашивает Шура, щеголяя осведомленностью. – Здорово небось управляешься с ними? Как повар с картошкой? А что – не боги на горшках сидят!
– Машины как машины. Они человека не пожалеют, если устал, передохнуть не дадут, если выдохся. Руки отмахаешь, ноги гудят. Все жилы выматывают, дьяволы. Вот вы станете инженерами, постройте такие машины, чтоб только кнопки нажимать! Вот житуха будет!.. Хотя бы ход, скорость бы регулировать…
Шура отворачивается, лицо его становится задумчивым. Маруся чувствует, что сказала лишнее. Ему, поповскому отпрыску, не придется на инженера учиться.
– Жалко мне тебя, Шурка… Всех людей жалко! Ежели попович, то что же, ему учиться нельзя? Зазря такое придумали. Вон сегодня у нас увольнение. Ну, конечно, не кадровых рабочих, не членов профсоюза. Тех, кого биржа прислала. Что делать, сокращение штатов называется. Сырья нехватка. Разве не жалко? Помните очереди на бирже? Как ныне за коммерческим.
Очень много из деревень на заводы кинулось. Люди семьями уехали из деревень, от голодухи спастись чтоб. Эх, елки точеные, лес голубой… Детишек жалко. Сколько горя на земле! Давеча в кино была, а сперва журнал показали. Тракторный завод – машины так и юркают из ворот! До нашей области не дошли еще? А, Шура? С тракторами разве бывает неурожай? Или это я себе вбила в бестолковку?..
– Пограмотней меня – и то ничего не поймут, Маруся. Вот Жора твой прибудет, его и расспроси. Хотя и он, кроме моря да старых газет, ничего не видит… Говоришь, никто не виноват. Все, значит, виноваты? Все – это нехорошо! Ответственность, спрос нужен.
– С начальства? – спрашивает Маруся.
– Со всех, – вставляю я, вспомнив настроения своего дядьки и краснея. Я ведь тоже неиспорченный. «Со всех» – Лемановское, «все отвечают за одного»!
Маруся долго и внимательно смотрит на меня. Точно желает не просто меня видеть, а провидеть все мое будущее. Материнской заботой теплится взгляд Марусиных широких синих глаз, она вздыхает:
– Эх, мужи ученые – мозги крученые. Вас хотя бы сытно кормят? Вот видишь! Сироток государство наше не забывает. И правильно это!..
И, этим утешившись, Маруся спохватывается:
– Заговорилась я с вами! Хоть часик-другой вздремнуть нужно перед сменой!
Едва ушла Маруся, к нам подходят две цыганки. Одна – большая и дородная, как стоведерная бочка, другая, наоборот, похожая, на девчонку, худенькая, с ребенком, как-то увязанным за спину в большой. платок. Когда-то цветное, тряпье на цыганках было вылинявшим, истлевшим то ли от дождей, то ли от непросыхаемого пота. На лицах застыла землистая тень отчаянья и терпенья. После того как мы наотрез отказываемся узнать от цыганок свою судьбу, нам предложено купить леденцов, которые дородная цыганка тут же нам показывает в подоле верхней юбки. Шура, которому ненагаданная, а действительная судьба отвела роль наблюдателя жизни, хмыкнул и даже тихонько присвистнул от удивления, глядя, как хорошо спал ребенок в платке – за спиной молодой цыганки. Платок был туго повязан, доступ воздуха надежно закрыт, и казалось, так легче удушить ребенка, чем дождаться, чтоб он уснул. И словно во имя нашего вящего удивления, молодая цыганка то и дело подергивала спиной, встряхивала плечом свою ношу в платке – цыганенок не просыпался! «Джятус ляна – позолоти ручку!» – наступала она на Шуру.
– Если цыгане, добры-люди, в Херсоне продают леденцы-цукерки, значит, в Олешках какой-то ларек будет продавать воду без сиропа, – еще раз хмыкнул Шура. Взяв леденец на щепочке, изображавший не то петуха, не то звезду, Шура внимательно осмотрел его со всех сторон – точно это было художественное произведение, а он, Шура, великим ценителем искусства. – Красный товар – нарасхват? Без полушки миллион наторговали?
– Не идет товар… Ай недорого продаем. Себе в убыток торгуем… Ч-черт! Или в вашем городе не любят сладкое, или детей нет? Ай-вай – такие сладкие леденцы! Купите, молодые люди! Задешево продадим!.. Пососал леденец – грешным мыслям конец!
Шура слушал цыганок с видом человека, хорошо познавшего все хитрости жизни, кивал головой с печальной покорностью и все с той же ухмылочкой на губах.
– Не купим мы у вас леденцов… И никто не купит… Хоть люди недоедают, все же, красавицы, они не забыли, что такое… чистоплотность… Ги-ги-е-на по-ученому! Кто же из подола твоей грязной юбки купит леденец, мамаша? В деревне, в городе ли – не купят. Русский человек, учтите, он – чистоплотный… А вы, цыгане, конечно, выше этого. Вам что мыться, что молиться…
– Ах ты, сатана! Ах ты, выблядок такой! Нет чище людей, чем цыгане. Дождем обмыты – ветром продуты! – накинулась цыганка на Шуру. Он, однако, ничуть не обиделся. С достоинством древнеримского оратора поднял руку Шура. Он был невозмутим и продолжал улыбаться. Словно все-все – и что торговля себе в убыток, и что товар не идет, и, наконец, что добавлено будет про сатану – все он знал наперед. Его ничем не удивить! Он знает, на какие страсти способно человеческое сердце.
– Почем торгуете? По двугривенному? Ясно!.. И еще не продали ни одного леденца. Тоже ясно! Так вот, послушай, мамаша, меня, – поглядывая на молодую с ребенком, по-свойски продолжал Шура. – Отправься на Профинтерна, дом тринадцать. Спроси Пашу Горбенко. Она у тебя заберет весь товар по пятиалтынному за штуку. То есть пятачок в ее пользу! Она на рынке свой человек, ее там все знают. И вообще она дама чистая, она морячков принимает, а те к грязнуле, учти, не пойдут!.. Ре-пу-та-ци-я! Это как по-цыгански? Вот… Скажешь, что я прислал, Шура Строганов.
Переглянувшись, цыганки быстро смекнули, что сатана в облике Шуры дело говорит им. Опять как древний ритор воздел руку Шура – показал цыганкам, куда им следует направить свои легкие, бесшумные цыганские стопы, чтоб найти Полю Горбенко. Женщины, шурша юбками, сделали полный разворот. Пощипывая пушок на скуле, Шура смотрел им вслед. Уже без ухмылки, даже как бы опечалившись.
– А ты не жадный, Шура?
– Это ты к чему? Что деньги коплю?.. Я в Одессу подамся! На корабль поступлю – хоть матросом, хоть юнгой. Ведь на первую пору – на харчи нужно? Мне сказали, если несколько лет проплавать матросом, потом в мореходку возьмут. Пущай хоть родители в Соловках…
– А вот отец Петр – тоже поп. А почему его не послали в Соловки? То есть почему твоего отца…
Глаза Шуры вдруг загорелись, вспыхнули злыми огоньками. Он зыркнул на меня, будто я был ему злейший враг. На темных от загара щеках проступил румянец.
– А потому, что неумный мой батя был! Жадные – они все неумные. Пришли закрывать церковь, а он сельчан на такую агитацию поднял, что те в топоры: «За веру православную!» И смех и грех. Бате та вера – до фени. Ему деньги прихожан нужны были. Грошики, копейки, пятаки крестьянские. Медь возил в город, у лавочников менял на бумаги, на кредитки… В общем, все правильно, Санька. Воз-мез-дие! Как у великого поэта Блока!.. А ты счастливей меня, у тебя, судя по всему и родители людьми были, и детство настоящее было. Батя у тебя – кто? Крестьянин, солдат, калека… Это многих славных путь. А мне вот – все сначала начинать надо! Ничего еще у меня настоящего не было. А жить надо так – э-эх! – чтоб потом умереть не жалко было! Вот я понимаю поэта! Скажем, вот это…
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Мял цветы! Не рвал, а мял. Застенчивое, мягкое, задумчивое – сокровенное – слово! Ходил по земле, влюбленный в жизнь, веселый и юный, беспечный и цветущий… Поэзию понимать нужно! Мял цветы – потому, что задумчиво, в мечте, нечаянно… Если случалось женщину обидеть – тоже нечаянно. Хотел радовать, чтоб жизнь неслась нескончаемо в этих цветущих лугах, среди яркого июньского разнотравья, такая же вечно цветущая, красивая и естественная, незлобивая и некорыстная, как сама природа! Не лежал – «валялся на траве» – тоже нечаянно, как мальчишка или как «братья меньшие», зверье. Какая любовь к жизни, к природе, в которой все живое! Надо жить не для жадности и денег – для неба и трав, для цветов и женщин… Вот это – молитва!.. Не богу, не мамоне: жизни! Так ли жил мой родитель? Эх!.. Одним коротким, нет, кротким и застенчивым, как голос котенка, – «мял» – как много говорит поэт, там, где ждем грубое, взрывное, агрессивное, – «рвал»! И каждое слово золотое!..
Поэты, брат, мудрые люди, они как бы ближе к природе, ее естественности, они страдальчески чувствуют красоту, до самозабвения любят жизнь, понимают ее счастье… Они учат жизни! И ты учись понимать поэзию! Она одна знает настоящие ценности жизни: свободу, любовь… И труд! Поэты – великие труженики. Труд чувств, мысли – души. Это только глупцы представляют себе поэтов беспечными людьми – закатывают глаза, повздыхают и заговорят стихами. Вот я, поповский сын, почему я горой за нашу жизнь? Потому, что она труд подняла высоко. Пахаря и поэта, кузнеца и землекопа. А я к машинам хочу! Я их чувствую как поэзию, техника для меня – что стихи. Работать хочу – аж руки зудятся. Поэзия – она за человека труда. Она против тех, кто по убогости и бездарности лишает жизнь человеческих ценностей… Знаешь, что скажу тебе, в подоснове новой жизни – чувство поэзии, чувство высшей правды! Жизнь наша породнила труд и поэзию…
Недавно смотрел я кино «Поэт и царь». Что-то из сказанного Шурой и я угадывал в этом кино. А ребята еще спорили – мировое или не мировое оно. По-моему – все же мировое! Даже в названии. Не Пушкин и Николай, а как бы вообще: поэзия – и тирания, как бы вечный поединок их! И тетя Клава согласилась со мной… И вообще, я думаю, – если кино настоящее, оно всегда – мировое!
– А ты меня научишь понимать поэзию, Шура?
– Э… Этому, тезка, научить нельзя. Как, скажем, невозможно научить любви, совести, таланту. Это тоже – талант, – искоса глянув на меня, улыбнулся Шура. Что-то, мне показалось, ревниво-затаенное обозначилось в складке его губ. Шура был сейчас очень далеко где-то от меня. Хоть зови его, как в лесу – а-у-у! Странно, я был рядом с Шурой, и мне страстно захотелось к нему, к его незримому «где-то», к его тайной нездешности…
– Это стихи великого поэта Блока? А, Шура? Скажи…
– Нет, Есенина. Тоже великого поэта… Ладно. Кто из поэзии делает бе-се-ду, тот в ней ни бельмеса не смыслит. Вроде тети Клавы нашей. Охи, ахи… Поэзия для души, а не для трепа… Ты думаешь: стишки – это так, забава, интересно, мол, почитать или это… де-кла-мировать! Настоящие стихи – они учат нашего брата быть человеком. «Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». Это – Пушкин! Ты думаешь, что поэт тот, кто пишет стихи?.. Нет, это призвание природы! Почитай пушкинского «Пророка»! Стихи… Вон барон Розен тоже писал стихи. И что же? Он – стихотворец… А Пушкин – поэт! Будете в школе сочинения писать, учительница все скажет вам. Мол, «поэт – пророк», он – «сын гармонии», он «творец культуры», что поэзия, мол, «созидает дух жизни»… Что поэту мешает чернь, а жизнь его – служение… У вас хорошая учительница в школе?.. Она все скажет. Запомнить – просто, осмыслить и понять – труднее! В жизни – всякое бывает, вон даже – голод… А она, поэзия, она – как вечная весна! И знаешь, знаешь, – она учит бесстрашию… Разве мало в жизни подонков? Черни этой самой всегда хватает, она только покраску меняет. Она стремится все иметь, потому что ничего не может уметь. И хитрит, и ползет, и жалит… А ты не бойся жизни, тезка!.. И старайся уметь, а не иметь. Ты очень любил маму – значит, будешь любить поэзию. А в ней – душа народа, душа России! Не бойся жизни… Счастья нет, а есть покой и воля… Тоже Пушкин! Покой не в смысле безделья, руки на брюхе после сытного обеда… Нет, несуетность в труде, и воля в достижении неэгоистичной цели! Видишь, как поэзия учит, – не так, как иной учитель-зануда – свойски, дружески, интересно, не ради отметки в журнале: весело! Даже когда о печальном. Читай, думай, чтоб стать для поэта «читателем-другом»!
– Шура, а ты смог бы стать поэтом?
– Что ты!.. – даже слегка засмущался он. – Поэтом нужно родиться… – Мне показалось, что я вторгся в запретный угол души друга. Видать, дружбе особенно подобает быть бдительной, ей легче всего власть в грубость. «Превысить права, думая, что права!» Я отвел глаза от смущенного лица Шуры.
Кстати, о душе говорили и товарищ Полянская, и тетя Клава. Наставляя тетю Клаву, товарищ Полянская выступала: «Вы должны знать душу своих воспитанников!» «Знать душу – и означает – не лезть в душу», – отозвалась тетя Клава. Леман не сдержал улыбку – на одно лишь мгновенье, тут же стер ее. Заметил я – всегда ругает тетю Клаву за то, что та непокорствует и препирается с товарищем Полянской, а сам, чувствуется, на стороне тети Клавы. «Она – наш куратор!» – выговаривает Леман тете Клаве. «Ах, не повторяйте ее попугайщину! Надо же… Человек при деле говорит просто, естественно, образно. А безделью и мнимому делу всегда нужны слова мертвые, мнимовнушительные – пугающие!.. Аж римскую империю откопала!..» «Неужели – римскую?» – усомнился Леман. «А то нет? Оратор, оператор, прокуратор и… кур-р-ра-тор!.. Куриный император! Всем курам на смех!»
Это тетя Клава у нас научилась переиначивать неугодные ей слова, доведя их до бессмыслицы. А все же – что такое «куратор»? А вот, чтоб узнать слово, не переиначить его нужно, а вернуть к родне своей! Куры тут ни при чем. «Курорт», «куранты», «курс», – знать, такая здесь родня. И «куратор», видимо, человек, дающий направление делу… Вот она кто – товарищ Полянская! А тетя Клава не следует ее направлению… Вот из-за чего ломаются копья!
Как мало я еще знаю… Как много знает Шура. И почему он такой невеселый сейчас? От есенинских стихов, что ли? Стихи очень красивые. Печальные. А вот почему-то у меня на сердце от этих стихов вдруг стало светло-светло… Вижу солнечный день, поля в голубой ржи, в небе жаворонок. Лицо матери в улыбке… А можно мне, детдомовцу, читать великих поэтов? И Блока, и Есенина мы в школе не проходили… Странно, как-то спросил учительницу в школе – ее точно током дернуло. Даже рассердилась: «Тебе что – Демьяна Бедного, Безыменского, Жарова мало?» А потом еще долго почему-то косилась на меня, как на оборотня…
На углу Торговой и Белинской нас окликнула Маруся. Она живет в подвале одного многолюдного дома – в том же дворе, что и тетя Клава. Ну и дом!.. Весь он распух от пристроек, навесов, мансард и подвалов. Не дом – курятник, вот-вот развалится от старости и тесноты. По крыше – из заплатанной жести, из черепицы, из теса, из толя – голь на выдумку хитра! – и даже частью из камыша – и кошки опасаются прогуливаться. А какие в дому разыгрываются женские баталии, какая там клокочет соленая, южная словесность!
Маруся нас окликнула – мы бы ее не узнали – вся белая, вся улыбается. Словно окунули ее в бочку с медом, потом катали по перу. На хлопковом заводе Маруся имеет дело с очень сложными машинами. Даже имена у этих машин мудреные, иностранные… Да и машины, конечно, иностранные. Наверно, купленные на тот же хлеб, о котором дядька Михайло говорит «тю-тю». Машины покупают так спешно, их стараются так быстро пустить в дело, что некогда их одомашнить, дать нашенские имена. Поэтому в разговорах Маруси только И слышишь: «линтера», «джины», «оливеры»… Моя б воля – назвал бы их женскими именами: Маруся, Тетя Клава, Аллочка… Красиво было бы!
Тонки и разлетны черные брови Маруси, она молодая и красивая, особенно в красной косынке, которая, конечно, тоже вся в пуху и вате. Она заигрывает с Шурой, щекочет его, Шура краснеет, а Маруся хохочет. «Точишь на мне свои женские чары?» – не теряется все же Шура. Мол, он – не цель, а средство. Цель – Жора! Это даже мне ясно. Но почему же Шура краснеет – не похоже это на друга моего! Может, он влюблен в Марусю? Не отсюда ли стихи и всякое такое?..
Жора плавает на «Котовском» помощником кочегара. Жора настоящий моряк! Это он посоветовал Шуре податься в юнги или матросы, чтоб заработать право поступить в мореходку. Жора – комсомолец, он читает газеты, он разбирается в политике. Шура его уважает. Вот уж за кого он готов в огонь и в воду! Да вот Жора не требует никаких жертв. Маруся терпеливо ждет воскресенья в конце месяца. Тогда приходит к ней Жора из рейса. Уже три года встречаются Маруся и Жора. Тетя Клава говорит, что они – прекрасная пара. Три года встречаются! Под ручку пройдутся по парку, ну разве что еще изредка в кино вместе сходят. И больше – ни-ни… Это в порядке вещей. Они пока только жених и невеста. Вот когда женятся, когда будут жить вместе, тогда у них детишки пойдут… Это все почему-то мне каждый раз объясняет тетя Клава. Что-то она тут не договаривает, смущенно улыбается, надеясь на мою сообразительность. Она, видимо, считает очень правильным отношения Маруси и Жоры, этим примером и меня назидает как мужчину. Мне это почему-то не лестно, что тетя Клава меня считает мужчиной и словно готовым тоже вот-вот завести себе невесту – наподобие Жоры.
Вообще мне кажется, что тетя Клава не случайно меня избрала доверенным лицом для своих мыслей о тайнах между мужчиной и женщиной. Шура – насмешливый родственник, отец Петр – почитаемый родитель, к тому же он в преклонном возрасте, Леман с нею строг и на всякий случай недоверчив к поповне. А главное, ни у кого не хватает терпения выслушивать пространные речи тети Клавы! «Толстой сказал, Чехов сказал…». А Шура, например, тот и от себя умеет интересно сказать. Слушает еще тетю Клаву Панько. Да велика ли радость иметь духовником Глухаря? И еще мне кажется, что со мною тетя Клава часто забывается и попутно поверяет мне много из тех заветных мыслей, которые залежались без употребления на дне ее души, по существу будучи адресованными профессору, видно, дорогому для нее человеку, далекому и любимому супругу. Или, может, тетя Клава верит в перевоплощение душ, и для нее я чудотворно обращаюсь в такие минуты в профессора-супруга? Она, например, говорила мне, что любовь нужно нести сквозь жизнь, как красивую тайну двух сердец, не огрублять ее эгоизмом, что настоящая любовь – в разлуке, как костер на ветру, еще сильней разгорается, что любовь единственная, настоящая – высшая – религия! Это были, конечно, очень умные речи, вполне достойные, вероятно, профессорского внимания, – но я-то был ни при чем… Неужели тетя Клава могла хоть слабо понадеяться, что в моем лице обретет замену такому высокому вниманию?.. Нет, видно, не надеялась. Потому что то и дело вставляла – «ну, тебе это не понять», а с лица ее не сходила все та же застенчиво-виноватая улыбка, мочки ушей у нее от волнения делались пунцовыми, а когда совсем бывало распалялась своим красноречием, вдруг умолкала, жарко притиснув меня к себе. Поскольку она была высокого роста, ей для этого приходилось сильно наклоняться. И все же мой нос каждый раз приходился при этом на уровне большой пряжки от пояса тети Клавиной юбки. От пояса пахло клеенкой, от блузки – мар-ки-зе-то-вой – пахло духами. Да, любовь Маруси, чистоту которой особо каждый раз подчеркивала тетя Клава, была предметом ее постоянного восхищения! Чистая-нечистая любовь… Лучше я об этом расспрошу у Шуры… Дети, наверно, от чистой любви? А от нечистой?.. Нечистая сила, что ли?
– Ну что, две Сашки-замарашки? По барахолкам и толкучкам промышляем? – улыбнулась Маруся. – Смотрите мне: станете урками, я вас больше любить не буду! – Шуре она подала, как взрослому, руку; значит, сегодня обойдется без щекотки; по отношению ко мне Маруся ограничилась лишь тем, что растрепала мои волосы. Этим, каждый раз притом, она и мне выказывает свое расположение. – Вот сама получила за два дня хлеб, отнесла на толчок. К свадьбе денежки нужны! Платье – нужно, туфли – нужны, всякое другое. Чтоб не упрекнул женишок, что взял в одной рубашке…
– Я тебя и без рубашки взял бы! – вставляет Шура, по-взрослому стараясь поддержать разговор, краснеет, но не тушуется. И это нравится Марусе. «Краснеешь, значит, неиспорченный», – как-то сказала она Шуре. Если это правда, мне, выходит, вовсе нечего беспокоиться. Ведь я всегда краснею так, что хочется сквозь землю провалиться. Даже с Фросей, даже с Леманом. А сам Леман сказал, что краснеют от мягкосердечия и трепехливого воображения. Все – слабохарактерность, себялюбие, гордыня.
– Взять-то взял бы, да скоро бросил. Несерьезный ты, Шурка. Разве ты можешь быть опорой для женщины? Все шуточки у тебя на уме. А мой Жора – серьезный. Это главное в мужчине. Чтоб основательность была!.. Ты, конечно, ученый, а вот говоришь много… Кто много говорит, по-моему, и не заметит сам, что сбрешет…
Странно, уж, по-моему, большего шутника, чем Жора, и сыскать невозможно, и вдруг «серьезный»! Про хлеб – Маруся правду сказала. Она себе во всем отказывает, но дело не только в платье-туфлях. Тетя Клава говорила, что оба, и Жора, и Маруся, копят деньги на домик за городом. Где-нибудь на Забалке, или на далекой Военке, на Мельнице или за Валами и старой крепостью. Пусть какую-нибудь мазанку. «С милым дружком – и в шалаше рай». И то еще ничего. Человек за счастье считает, если работа есть. Биржу труда уже давно закрыли – с работой легче стало, не только членам профсоюза. А все же – увольнения и сокращения…
Иной раз Маруся работает по две смены, лишь бы заработать немного больше денег. Маруся – ударница и член профсоюза, ее не уволят даже по сокращению. И еще я знаю, что она получает молоко, поскольку у нее вредное производство.
– Ну как твои машины-линтера и джины? – спрашивает Шура, щеголяя осведомленностью. – Здорово небось управляешься с ними? Как повар с картошкой? А что – не боги на горшках сидят!
– Машины как машины. Они человека не пожалеют, если устал, передохнуть не дадут, если выдохся. Руки отмахаешь, ноги гудят. Все жилы выматывают, дьяволы. Вот вы станете инженерами, постройте такие машины, чтоб только кнопки нажимать! Вот житуха будет!.. Хотя бы ход, скорость бы регулировать…
Шура отворачивается, лицо его становится задумчивым. Маруся чувствует, что сказала лишнее. Ему, поповскому отпрыску, не придется на инженера учиться.
– Жалко мне тебя, Шурка… Всех людей жалко! Ежели попович, то что же, ему учиться нельзя? Зазря такое придумали. Вон сегодня у нас увольнение. Ну, конечно, не кадровых рабочих, не членов профсоюза. Тех, кого биржа прислала. Что делать, сокращение штатов называется. Сырья нехватка. Разве не жалко? Помните очереди на бирже? Как ныне за коммерческим.
Очень много из деревень на заводы кинулось. Люди семьями уехали из деревень, от голодухи спастись чтоб. Эх, елки точеные, лес голубой… Детишек жалко. Сколько горя на земле! Давеча в кино была, а сперва журнал показали. Тракторный завод – машины так и юркают из ворот! До нашей области не дошли еще? А, Шура? С тракторами разве бывает неурожай? Или это я себе вбила в бестолковку?..
– Пограмотней меня – и то ничего не поймут, Маруся. Вот Жора твой прибудет, его и расспроси. Хотя и он, кроме моря да старых газет, ничего не видит… Говоришь, никто не виноват. Все, значит, виноваты? Все – это нехорошо! Ответственность, спрос нужен.
– С начальства? – спрашивает Маруся.
– Со всех, – вставляю я, вспомнив настроения своего дядьки и краснея. Я ведь тоже неиспорченный. «Со всех» – Лемановское, «все отвечают за одного»!
Маруся долго и внимательно смотрит на меня. Точно желает не просто меня видеть, а провидеть все мое будущее. Материнской заботой теплится взгляд Марусиных широких синих глаз, она вздыхает:
– Эх, мужи ученые – мозги крученые. Вас хотя бы сытно кормят? Вот видишь! Сироток государство наше не забывает. И правильно это!..
И, этим утешившись, Маруся спохватывается:
– Заговорилась я с вами! Хоть часик-другой вздремнуть нужно перед сменой!
Едва ушла Маруся, к нам подходят две цыганки. Одна – большая и дородная, как стоведерная бочка, другая, наоборот, похожая, на девчонку, худенькая, с ребенком, как-то увязанным за спину в большой. платок. Когда-то цветное, тряпье на цыганках было вылинявшим, истлевшим то ли от дождей, то ли от непросыхаемого пота. На лицах застыла землистая тень отчаянья и терпенья. После того как мы наотрез отказываемся узнать от цыганок свою судьбу, нам предложено купить леденцов, которые дородная цыганка тут же нам показывает в подоле верхней юбки. Шура, которому ненагаданная, а действительная судьба отвела роль наблюдателя жизни, хмыкнул и даже тихонько присвистнул от удивления, глядя, как хорошо спал ребенок в платке – за спиной молодой цыганки. Платок был туго повязан, доступ воздуха надежно закрыт, и казалось, так легче удушить ребенка, чем дождаться, чтоб он уснул. И словно во имя нашего вящего удивления, молодая цыганка то и дело подергивала спиной, встряхивала плечом свою ношу в платке – цыганенок не просыпался! «Джятус ляна – позолоти ручку!» – наступала она на Шуру.
– Если цыгане, добры-люди, в Херсоне продают леденцы-цукерки, значит, в Олешках какой-то ларек будет продавать воду без сиропа, – еще раз хмыкнул Шура. Взяв леденец на щепочке, изображавший не то петуха, не то звезду, Шура внимательно осмотрел его со всех сторон – точно это было художественное произведение, а он, Шура, великим ценителем искусства. – Красный товар – нарасхват? Без полушки миллион наторговали?
– Не идет товар… Ай недорого продаем. Себе в убыток торгуем… Ч-черт! Или в вашем городе не любят сладкое, или детей нет? Ай-вай – такие сладкие леденцы! Купите, молодые люди! Задешево продадим!.. Пососал леденец – грешным мыслям конец!
Шура слушал цыганок с видом человека, хорошо познавшего все хитрости жизни, кивал головой с печальной покорностью и все с той же ухмылочкой на губах.
– Не купим мы у вас леденцов… И никто не купит… Хоть люди недоедают, все же, красавицы, они не забыли, что такое… чистоплотность… Ги-ги-е-на по-ученому! Кто же из подола твоей грязной юбки купит леденец, мамаша? В деревне, в городе ли – не купят. Русский человек, учтите, он – чистоплотный… А вы, цыгане, конечно, выше этого. Вам что мыться, что молиться…
– Ах ты, сатана! Ах ты, выблядок такой! Нет чище людей, чем цыгане. Дождем обмыты – ветром продуты! – накинулась цыганка на Шуру. Он, однако, ничуть не обиделся. С достоинством древнеримского оратора поднял руку Шура. Он был невозмутим и продолжал улыбаться. Словно все-все – и что торговля себе в убыток, и что товар не идет, и, наконец, что добавлено будет про сатану – все он знал наперед. Его ничем не удивить! Он знает, на какие страсти способно человеческое сердце.
– Почем торгуете? По двугривенному? Ясно!.. И еще не продали ни одного леденца. Тоже ясно! Так вот, послушай, мамаша, меня, – поглядывая на молодую с ребенком, по-свойски продолжал Шура. – Отправься на Профинтерна, дом тринадцать. Спроси Пашу Горбенко. Она у тебя заберет весь товар по пятиалтынному за штуку. То есть пятачок в ее пользу! Она на рынке свой человек, ее там все знают. И вообще она дама чистая, она морячков принимает, а те к грязнуле, учти, не пойдут!.. Ре-пу-та-ци-я! Это как по-цыгански? Вот… Скажешь, что я прислал, Шура Строганов.
Переглянувшись, цыганки быстро смекнули, что сатана в облике Шуры дело говорит им. Опять как древний ритор воздел руку Шура – показал цыганкам, куда им следует направить свои легкие, бесшумные цыганские стопы, чтоб найти Полю Горбенко. Женщины, шурша юбками, сделали полный разворот. Пощипывая пушок на скуле, Шура смотрел им вслед. Уже без ухмылки, даже как бы опечалившись.