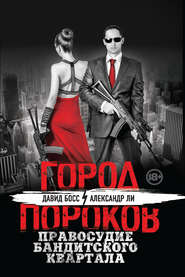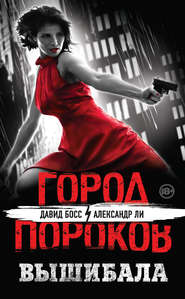По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Безобразный Ренессанс. Секс, жестокость, разврат в век красоты
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полагаясь на богатство и доброжелательность покровителей, Микеланджело – как и все остальные художники эпохи Ренессанса – был неразрывно связан с состоянием ренессансной экономики и главным образом с богатством людей, подобных Сальвиати.
Свое состояние Сальвиати сделал в сфере торгового банковского дела. Он вошел в этот бизнес в самое подходящее время. Далее мы с вами поговорим об этом подробнее, а пока скажем, что торговое банковское дело во Флоренции в начале XIV в. переживало настоящий взрыв. Тогда возникла потребность в осуществлении коммерческих переводов на большие расстояния. За несколько десятилетий в этой сфере образовалось несколько супер компаний, которые не только имели филиалы по всему континенту, но еще и действовали как настоящие крупные банки.
Их прибыль была колоссальной даже в период формирования и первичного развития. Например, в 1318 г. семейство Барди располагало рабочим капиталом в 875 тысяч флоринов. Их состояние было больше всей государственной казны Франции. К концу XV в. деньги, которые Сальвиати получал от своего торгового банка, перешли на новый уровень.
Но хотя Сальвиати и сделал состояние на одалживании и обмене денег, в ряды самых богатых людей Флоренции его ввело не это. Главное заключалось в его готовности инвестировать значительную часть своих средств во вторую по значимости производственную сферу города – торговлю тканью. Торговые банки постоянно получали огромную прибыль, но главным фактором, обеспечивающим процветание Флоренции, было производство шерсти и шелка. Роль этих отраслей была настолько значительна, что даже заказ на «Давида» Микеланджело получил от комитета, которым управляла гильдия сукноделов.
Сальвиати очень искусно вкладывал свои деньги. Хотя деятельность семейства Сальвиати изучена плохо, очевидно, что тканями (и особенно шелком) они занялись в еще более подходящий момент, чем банковским делом.
Это произошло при жизни близкого родственника Якопо, Аламанно ди Якопо (умер в 1456 г.). Поначалу Флоренция ограничивалась только переработкой готовых тканей, которые поставлялись сюда со всей Европы. Однако вскоре городские торговцы поняли, что можно заработать гораздо больше, если привозить качественную шерсть из Испании и Англии и производить собственные выкокачественные ткани для продажи на международных рынках. Новые торговые банки обеспечили отрасль деньгами. Успеху также способствовало постепенное угасание ткачества во Фландрии. Флоренция использовала потрясения середины XIV в., чтобы с 1370 г. занять доминирующее положение в европейской торговле.
Отрасль была фрагментарной по своей природе. К концу XIV в. во Флоренции существовало около 100 конкурирующих между собой компаний по производству шерсти. Каждая контролировала не более 1–2% общего производства. Но прибыли были колоссальными. За период с 1346 по 1350 г. компания, основанная Антонио ди Ландо дельи Альбицци и занимавшаяся всеми процессами производства шерсти, имела две мастерские и сеть распространения во Флоренции, а также сотрудничала с торговым банком Антонио в Венеции.
Компания получала ежегодную прибыль в размере более 22 % – показатель, которому могут позавидовать многие современные бизнесмены. Развитие этой сферы экономики шло так стремительно, что в середине XV в. торговец Джованни Ручеллаи считал, что город получает около 1,5 миллиона флоринов
(около 270,5 миллиона долларов по современной цене золота и примерно 739,5 миллиона долларов по ставкам 1450 г.
) в деньгах и товарах. Надо сказать, что он явно занизил истинные финансовые показатели.
Постепенно флорентийские производители начали диверсифицировать производство – стали производить высококачественные шелка и доступные хлопковые ткани. Кульминацией развития флорентийского ткачества стал 1501 г. – то самое время, когда Сальвиати со всей энергией и средствами занялся этой отраслью. Когда Микеланджело начал работать над «Давидом», ежегодные продажи шерстяных и шелковых тканей в регионе оценивались в три миллиона флоринов, и прибыли эти продолжали расти в течение почти всего века. Даже семейство Буонаротти не устояло перед соблазном испытать удачу в этой сфере. Через несколько лет, в 1514 г., Микеланджело выделил тысячу флоринов на семейный шерстяной бизнес, которым занялся его брат Буонаротто.
Во Флоренцию текли широкие реки золота, обогащая людей, подобных Сальвиати. А они вкладывали деньги в крупные общественные проекты например в создание «Гиганта».
Каждому, кто соглашался слушать, Сальвиати с городостью заявлял, что он – один из самых богатых людей Флоренции, сделавший состояние на волне коммерческой экспансии. Но его процветание и процветание города в целом скрывало под собой самые безобразные истины. Своим бизнесом он управлял так, словно отвратительное экономическое неравенство было неизбежно, а повсеместная бедность совершенно естественна.
Подавляющее большинство горожан жили в абсолютной нищете. В 1427 г. около 25 % богатства города приходилось на 1 % жителей. Еще более удивительна другая цифра: на беднейшие 60 % населения приходилось менее 5 % капитала! Большая часть тех, кто фигурирует в городских налоговых документах, не имела вообще ничего.
И это результат того, как развивалось дело Сальвиати. Как и многие другие крупные отрасли производства, текстильная отрасль (которая платила за «Давида» и в 1427 г. обеспечивала занятость 21 % флорентийских семей
) требовала высокого уровня специализации. Для производства сукна и шелков Сальвиати должен был разбить весь процесс производства на множество мелких операций: чесание, прядение, крашение, ткачество.
Хотя некоторые компании, например компания Антонио ди Ландо дельи Альбицци, обеспечивали большую часть производственного цикла, гораздо больше компаний (как и компания Сальвиати) поручали отдельные операции мелким мастерским или ремесленникам. Мелкие мастерские работали в тесных арендованных помещениях (обычно под мастерскую отводили часть дома, в котором жил один из партнеров), расположенных в определенных частях города. Индивидуальные ремесленники – прядильщики или ткачи – почти всегда работали дома.
Такая система разделения труда была коммерчески гибкой и очень выгодной. Сальвиати мог мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, сменив тех, с кем он сотрудничал на конкретных участках производства, не рискуя прибыльностью предприятия в целом. Но Сальвиати содержал десятки мастерских и ремесленников. Его слово было законом. От него зависели жизни сотен людей. В его интересах было содержать тех, кто на него работал, в максимальной бедности. И он отлично умел торговаться, чтобы платить самые низкие ставки. Сальвиати не был исключением. К примеру, в 1386–1390 гг. Никколо Строцци и Джованни ди Креди совместно владели очень успешной мастерской.
Большую часть их расходов составляли выплаты различным субподрядчикам за выполненные работы. Разница в оплате была колоссальной. Чесальщик Фруозино и немецкие ткачи Аникино и Герардо из Кельна получали хорошие, даже очень хорошие деньги. Но остальным везло меньше. Меньше всех – даже меньше, чем посыльный Джованни ди Нери и ученик Антонио ди Бонсиньоре – получала группа из 20 женщин, которые на дому пряли шерсть. Но даже здесь о справедливости речи не шло. Если некая Маргерита за 10 фунтов спряденной шерсти получала 2 лиры, то Никольса за 43 фунта получала всего 2 лиры 13 сольди. Можно только предполагать, каковы были причины подобного распределения оплаты, но этот пример прекрасно иллюстрирует то, что надомные работники (особенно женщины, которых в сукноделии было занято огромное множество
) целиком и полностью зависели от своих работодателей.
Однако, сколь бы пугающей ни казалась колоссальная власть Сальвиати над своими работниками, те, кто работал в этой отрасли, находились в лучшем положении. В 1344 г. два плотника написали письмо своему другу в Авиньон. Их интересовала возможность работы, потому что «сегодня положение ремесленников и низших классов во Флоренции просто ужасно, и им невозможно ничего заработать».
Хотя это письмо было написано в самый тяжелый для рынка труда момент, подобные настроения вполне типичны и для квалифицированных, и для неквалифицированных работников. Многие из тех, с кем Микеланджело был близко знаком и кого он нанимал на работу, находились в самом низу экономической пирамиды ренессансной Флоренции. Каменщики «Тополино» и Микеле ди Пьеро Пиппо были искусными ремесленниками. Чаще всего они работали за плату 10–12 часов в день пять дней в неделю, но их заработок никак не успевал за ростом цен.
Рядовые рабочие и подмастерья на стройках, например, те, кто помогал Микеланджело в работе в Сан-Лоренцо,
находились в еще более тяжелом положении. Их обычно нанимали либо для выполнения конкретной работы, либо поденно. Зимой работа оплачивалась хуже. Даже летом строительные рабочие получали так мало, что современные историки используют их в качестве меры бедности во Флоренции эпохи Ренессанса.
Якопо Сальвиати: структурное неравенство
Что делало Якопо Сальвиати столь влиятельным членом флорентийского общества и помогло ему сыграть важную роль в создании «Давида»? Это не только его богатство, но и видное положение в городских гильдиях (Arti). Члены комитета собора, которые заказали Микеланджело «Гиганта», происходили из гильдии сукноделов – Арте делла Лана. Их участие в этом важнейшем проекте показывает, какую важную роль гильдии и их члены играли в городском обществе. Именно гильдии были «кукловодами» флорентийской экономики. В 1499 г. Сальвиати стал приором всей системы гильдий (т. е. их представителем в правительстве), поэтому мог считаться главным над всеми.
Арте делла Лана была одной из 21 гильдии Флоренции. В целом гильдия являлась эксклюзивным самосохраняющимся обществом торговцев и ремесленников. Она определяла стандарты мастерства, производительности и подготовки в рамках определенной отрасли и представляла интересы своих членов в городе. Но этим функции гильдий не ограничивались. Обладая широкой властью, гильдии занимались разрешением кризисов, решением трудовых споров и поддержанием дисциплины. В случае изменения экономической обстановки гильдия могла ограничить производство в определенных мастерских или перевести рабочую силу в другое место для предотвращения проблем. Если между членами гильдии или между членом гильдии и другим человеком возникали споры, гильдия выступала в качестве последника. Но самое главное – гильдии следили за соблюдением стандартов, а это означало, что основные силы тратились на обеспечение подчинения правилам. Те, кто платил своим рабочим слишком много, чьи товары не соответствовали стандартам качества, подвергались наказаниям.
21 гильдия Флоренции охватывала все стороны квалифицированного или специализированного труда. Имелась гильдия мясников (Беккаи), пекарей (Форнаи), столяров и изготовителей мебели (Леньяйоли), адвокатов и нотариусов (Джудичи е Нотаи), каменщиков, плотников и изготовителей кирпичей (Маэстри ди пьетра э леньяме), кожевенников и меховщиков (Ваиаи э Пелличчиаи), кузнецов и изготовителей инструментов (Фаббри).
Но не все гильдии были равны. В системе гильдий имелось 14 «младших» и семь «старших» гильдий. Причины того были чисто политическими, но разделение отражало сравнительную значимость различных ремесел во флорентийской экономике. Статус гильдий банкиров (Камбио), внешних торговцев (Калимала) и изготовителей шелка (Сета, порт Санта-Мария) был выше, чем статус гильдий отельеров (Альбергатори) или замочных мастеров (Кьявайоли).
Эксклюзивная и строго иерархическая Арте делла Лана – гильдия сукноделов – считалась самой важной и влиятельной. Ее деятельность являлась восплощением экономических условий, в которых Микеланджело выполнял полученный заказ.
Арте делла Лана не только регулировала деятельность в сфере производства шерсти, но еще и обеспечивала абсолютное главенство города в европейской торговле тканями. Дом гильдии, впечатляющий палаццо дель Арте делла Лана, находился напротив Орсанмикеле, совсем рядом с площадью Синьории. Гильдия объединяла самых богатых производителей Флоренции и твердо отстаивала собственные интересы. Обычные работники – сукновалы, чесальщики и прядильщики – в руководство гильдии не входили, но не могли сформировать и собственную организацию. В результате они полностью зависели от торговцев и производителей, что вызывало постоянную напряженность в отношениях с гильдией.
Те, чья роль давала какую-то экономическую силу, всегда могли прибегнуть к забастовке, когда условия становились совершенно невыносимыми. В 1370 г. красильщики пошли на такой шаг, чтобы потребовать более высокой цены на крашеные ткани. Но подмастерья и те, чья работа требовала минимума специализированных навыков, не имели никакой экономической силы. Их возможности были весьма ограничены. Трепальщики, которые с помощью ивовых прутьев выбивали загрязнения из только что промытой сырой шерсти и трепали волокна, и чесальщики, которые плоскими гребнями разделяли шерстяные волокна, подготавливая шерсть к прядению, для производства сукна были необходимы, но находились на минимальной оплате и постоянно балансировали на пороге нищеты, особенно в трудные времена. Несмотря на то что в 1370-е и 1380-е гг. таких работников, занимавших низшую ступень экономической лестницы (popolo minuto), насчитывалось около 15 тысяч, им было категорически запрещено образовывать какие-то организации, что позволило бы им координировать собственные действия и как-то влиять на свое положение.
Абсолютное неравенство, закрепленное системой гильдий, порождало конфликты – особенно у сукноделов. Первые симптомы этого стали появляться уже в середине XIV в., когда сокращение населения повысило роль неимущих. В 1345 г. некоего Чуто Брандини осудили за организацию гильдии popoplo minuto в шерстяной отрасли. В судебных документах говорилось:
…вместе со многими другими, соблазненными им он решил по собственному разумению образовать братство… чесальщиков и других работающих в цехе шерстянщиков в возможно большем количестве. Чтобы они могли собираться и избирать советников и глав своего братства… он устроил собрания по разным поводам и в разные дни множества людей низшего сословия. Помимо прочего на этих собраниях Чуто приказал собирать деньги с тех, кто присутствовал на них… чтобы они стали сильнее и выносливее…
Созданное для заключения «коллективного договора» братство Чуто по современным меркам может показаться совершенно безвредным. Но для тогдашних торговцев это была серьезная угроза. Суд заклеймил протогильдию Чуто как «злонамеренную», а ее цели были признаны «вызывающими ненависть… [против] тех состоятельных граждан, которые хотели помешать Чуто… достичь этих целей».
Под «ненавистью» здесь следует понимать «справедливую оплату», а под «состоятельными гражданами» – «алчных торговцев».
Но все это были еще цветочки. Летом 1378 г. накапливавшееся недовольство выплеснулось в новый бунт – восстание чомпи. Popolo minuto, недовольные тем, что их не допускают в гильдии, а городское правительство ничего не делает, чтобы противостоять этому, собрались так же, как и в 1345 г., и выдвинули ряд требований, список которых предъявили приорам 21 июля. Хотя среди требований были и связанные с долгами и принудительными займами, основным оставалось требование создания отдельной гильдии «чесальщиков, трепальщиков, щипалыциков и других рабочих-шерстянщиков»
, которые до сего времени находились под пятой Арте делла Лана. Приоры с возмущением отклонили все эти требования.
Рабочие пришли в ярость и пошли на штурм Палаццо Веккьо. Они «выбросили и сожгли… все документы, которые смогли найти», и отказались уходить. На следующее утро они выбрали гонфалоньером справедливости чесальщика Микеле ди Ландо
и приступили к выборам новых приоров из собственных рядов. Когда отзвонили праздничные колокола, свежеизбранная Синьория немедленно приступила к еще более кардинальной реорганизации структуры гильдий, чем требовалось изначально.
Несмотря на поддержку других слоев общества, это было народное правительство, причем во многих отношениях по-настоящему революционное. Но действовало оно недолго. Несмотря на коллективную силу, новые гильдии Микеле ди Ландо просто не могли противостоять колоссальному богатству торговой элиты Флоренции. Члены Арте делла Лана прекратили деятельность, т. е. лишили чомпи-шерстянщиков хлеба с маслом. Общность интересов, которая была основой восстания, дрогнула. Чомпи сделали последнее усилие, но потерпели поражение в жестокой битве 31 августа 1378 г., когда им противостояли объединенные силы банкиров, торговцев и ремесленников. Революция закончилась, и горькое неравенство системы гильдий, крещенное слезами неимущих, стало неотъемлемой чертой флорентийской экономики вплоть до 1534 г., когда герцог Алессандро де Медичи окончательно реорганизовал гильдии.
Якопо Сальвиати играл важнейшую роль в структуре гильдий, благодаря чему пользовался колоссальным влиянием не только во флорентийской экономике в целом, но и на всех этапах работы над «Давидом». Микеланджело работал над статуей в начале XVI в. и был скован правилами флорентийских гильдий, как будто являлся их активным членом. Монументальную статую заказала самая влиятельная гильдия города. Покровителями скульптора были люди, игравшие видные роли в «старших» гильдиях. Его помощники жили и трудились по правилам гильдии, а подмастерья находились на грани нищеты из-за структуры гильдий. Будучи художником – даже свободным художником – Микеланджело сотрудничал с гильдиями и был обязан соблюдать нормы, установленные ими в экономической жизни Флоренции.
Пьеро Содерини: политическое неравенство
Если Якопо Сальвиати воплощал собой экономические условия, от которых зависело создание «Давида», то его добрый друг и коллега Пьеро Содерини служил символом политических влияний, которые Микеланджело должен был учитывать в процессе работы над проектом.
Худой, мрачный Содерини был главой флорентийского государства.
Большую часть жизни он провел на службе города. После падения Савонаролы его сочли надежным правителем, и он получил пожизненный пост гонфалоньера справедливости (gonfaloniere di giustizia). Этот шаг должен был дать какое-то подобие стабильности городу, переживавшему трудные времена. Хотя Содерини и нельзя считать идеальным правителем, он правил мудро и справедливо. Он обладал высокой общественной моралью и руководствовался ею в своих действиях. Он был свидетелем тягот правления Медичи и Савонаролы и преисполнился решимости сделать так, чтобы город мог в полной мере насладиться вкусом «народного» управления.
Содерини прекрасно осознавал «пропагандистский» потенциал искусства. Он считал, что такие работы, как «Давид», могут сыграть важную роль в подъеме гражданского духа, который должен был служить оплотом общественной жизни для будущих поколений.
Идея была не нова. Почти за два века до этого аналогичные обстоятельства были отображены на фресках Амброджо Лоренцетти «Аллегория хорошего и плохого правления» в зале деи Нове в Палаццо Пубблико в Сиене
. Фрески Лоренцетти – это глубокое и сложное аллегорическое восхваление республиканских добродетелей. Они говорят о том, что художник тонко чувствовал тенденции современной политической мысли. Судя по всему, между художником и городскими властями шел непрерывный диалог. Но, учитывая полученную в наследство политическую ситуацию, Содерини относился к «Давиду» по-особому. Он лично контролировал ход работ Микеланджело с самого начала. Хотя статуя была заказана комитетом собора, она должна была восхвалять республиканские «свободы». В конце концов статую установили у главных врат Палаццо Веккьо, где она стала мощным символом не просто независимости Флоренции от внешних агрессоров, но и способности города к самостоятельному управлению. В глазах Содерини «Давид» был символом силы и стойкости города, объединившегося под знаменем республиканской свободы.
Как современные демократии, республика, которой управлял Содерини, была разделена на две части. Исполнительная власть находилась в руках Синьории, состоявшей из восьми приоров, каждый из которых служил один срок – два месяца. Гонфалоньер справедливости обычно избирался на столь же краткий срок, но Содерини получил этот пост пожизненно. Таким образом, комитет из девяти человек обладал колоссальной властью. За 70 лет до этого Грегорио Дати писал, что обычно Синьория следила лишь за исполнением законов, но обладала «неограниченной властью и авторитетом» и в экстренных ситуациях могла делать то, что считали необходимым ее члены.
Свое состояние Сальвиати сделал в сфере торгового банковского дела. Он вошел в этот бизнес в самое подходящее время. Далее мы с вами поговорим об этом подробнее, а пока скажем, что торговое банковское дело во Флоренции в начале XIV в. переживало настоящий взрыв. Тогда возникла потребность в осуществлении коммерческих переводов на большие расстояния. За несколько десятилетий в этой сфере образовалось несколько супер компаний, которые не только имели филиалы по всему континенту, но еще и действовали как настоящие крупные банки.
Их прибыль была колоссальной даже в период формирования и первичного развития. Например, в 1318 г. семейство Барди располагало рабочим капиталом в 875 тысяч флоринов. Их состояние было больше всей государственной казны Франции. К концу XV в. деньги, которые Сальвиати получал от своего торгового банка, перешли на новый уровень.
Но хотя Сальвиати и сделал состояние на одалживании и обмене денег, в ряды самых богатых людей Флоренции его ввело не это. Главное заключалось в его готовности инвестировать значительную часть своих средств во вторую по значимости производственную сферу города – торговлю тканью. Торговые банки постоянно получали огромную прибыль, но главным фактором, обеспечивающим процветание Флоренции, было производство шерсти и шелка. Роль этих отраслей была настолько значительна, что даже заказ на «Давида» Микеланджело получил от комитета, которым управляла гильдия сукноделов.
Сальвиати очень искусно вкладывал свои деньги. Хотя деятельность семейства Сальвиати изучена плохо, очевидно, что тканями (и особенно шелком) они занялись в еще более подходящий момент, чем банковским делом.
Это произошло при жизни близкого родственника Якопо, Аламанно ди Якопо (умер в 1456 г.). Поначалу Флоренция ограничивалась только переработкой готовых тканей, которые поставлялись сюда со всей Европы. Однако вскоре городские торговцы поняли, что можно заработать гораздо больше, если привозить качественную шерсть из Испании и Англии и производить собственные выкокачественные ткани для продажи на международных рынках. Новые торговые банки обеспечили отрасль деньгами. Успеху также способствовало постепенное угасание ткачества во Фландрии. Флоренция использовала потрясения середины XIV в., чтобы с 1370 г. занять доминирующее положение в европейской торговле.
Отрасль была фрагментарной по своей природе. К концу XIV в. во Флоренции существовало около 100 конкурирующих между собой компаний по производству шерсти. Каждая контролировала не более 1–2% общего производства. Но прибыли были колоссальными. За период с 1346 по 1350 г. компания, основанная Антонио ди Ландо дельи Альбицци и занимавшаяся всеми процессами производства шерсти, имела две мастерские и сеть распространения во Флоренции, а также сотрудничала с торговым банком Антонио в Венеции.
Компания получала ежегодную прибыль в размере более 22 % – показатель, которому могут позавидовать многие современные бизнесмены. Развитие этой сферы экономики шло так стремительно, что в середине XV в. торговец Джованни Ручеллаи считал, что город получает около 1,5 миллиона флоринов
(около 270,5 миллиона долларов по современной цене золота и примерно 739,5 миллиона долларов по ставкам 1450 г.
) в деньгах и товарах. Надо сказать, что он явно занизил истинные финансовые показатели.
Постепенно флорентийские производители начали диверсифицировать производство – стали производить высококачественные шелка и доступные хлопковые ткани. Кульминацией развития флорентийского ткачества стал 1501 г. – то самое время, когда Сальвиати со всей энергией и средствами занялся этой отраслью. Когда Микеланджело начал работать над «Давидом», ежегодные продажи шерстяных и шелковых тканей в регионе оценивались в три миллиона флоринов, и прибыли эти продолжали расти в течение почти всего века. Даже семейство Буонаротти не устояло перед соблазном испытать удачу в этой сфере. Через несколько лет, в 1514 г., Микеланджело выделил тысячу флоринов на семейный шерстяной бизнес, которым занялся его брат Буонаротто.
Во Флоренцию текли широкие реки золота, обогащая людей, подобных Сальвиати. А они вкладывали деньги в крупные общественные проекты например в создание «Гиганта».
Каждому, кто соглашался слушать, Сальвиати с городостью заявлял, что он – один из самых богатых людей Флоренции, сделавший состояние на волне коммерческой экспансии. Но его процветание и процветание города в целом скрывало под собой самые безобразные истины. Своим бизнесом он управлял так, словно отвратительное экономическое неравенство было неизбежно, а повсеместная бедность совершенно естественна.
Подавляющее большинство горожан жили в абсолютной нищете. В 1427 г. около 25 % богатства города приходилось на 1 % жителей. Еще более удивительна другая цифра: на беднейшие 60 % населения приходилось менее 5 % капитала! Большая часть тех, кто фигурирует в городских налоговых документах, не имела вообще ничего.
И это результат того, как развивалось дело Сальвиати. Как и многие другие крупные отрасли производства, текстильная отрасль (которая платила за «Давида» и в 1427 г. обеспечивала занятость 21 % флорентийских семей
) требовала высокого уровня специализации. Для производства сукна и шелков Сальвиати должен был разбить весь процесс производства на множество мелких операций: чесание, прядение, крашение, ткачество.
Хотя некоторые компании, например компания Антонио ди Ландо дельи Альбицци, обеспечивали большую часть производственного цикла, гораздо больше компаний (как и компания Сальвиати) поручали отдельные операции мелким мастерским или ремесленникам. Мелкие мастерские работали в тесных арендованных помещениях (обычно под мастерскую отводили часть дома, в котором жил один из партнеров), расположенных в определенных частях города. Индивидуальные ремесленники – прядильщики или ткачи – почти всегда работали дома.
Такая система разделения труда была коммерчески гибкой и очень выгодной. Сальвиати мог мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, сменив тех, с кем он сотрудничал на конкретных участках производства, не рискуя прибыльностью предприятия в целом. Но Сальвиати содержал десятки мастерских и ремесленников. Его слово было законом. От него зависели жизни сотен людей. В его интересах было содержать тех, кто на него работал, в максимальной бедности. И он отлично умел торговаться, чтобы платить самые низкие ставки. Сальвиати не был исключением. К примеру, в 1386–1390 гг. Никколо Строцци и Джованни ди Креди совместно владели очень успешной мастерской.
Большую часть их расходов составляли выплаты различным субподрядчикам за выполненные работы. Разница в оплате была колоссальной. Чесальщик Фруозино и немецкие ткачи Аникино и Герардо из Кельна получали хорошие, даже очень хорошие деньги. Но остальным везло меньше. Меньше всех – даже меньше, чем посыльный Джованни ди Нери и ученик Антонио ди Бонсиньоре – получала группа из 20 женщин, которые на дому пряли шерсть. Но даже здесь о справедливости речи не шло. Если некая Маргерита за 10 фунтов спряденной шерсти получала 2 лиры, то Никольса за 43 фунта получала всего 2 лиры 13 сольди. Можно только предполагать, каковы были причины подобного распределения оплаты, но этот пример прекрасно иллюстрирует то, что надомные работники (особенно женщины, которых в сукноделии было занято огромное множество
) целиком и полностью зависели от своих работодателей.
Однако, сколь бы пугающей ни казалась колоссальная власть Сальвиати над своими работниками, те, кто работал в этой отрасли, находились в лучшем положении. В 1344 г. два плотника написали письмо своему другу в Авиньон. Их интересовала возможность работы, потому что «сегодня положение ремесленников и низших классов во Флоренции просто ужасно, и им невозможно ничего заработать».
Хотя это письмо было написано в самый тяжелый для рынка труда момент, подобные настроения вполне типичны и для квалифицированных, и для неквалифицированных работников. Многие из тех, с кем Микеланджело был близко знаком и кого он нанимал на работу, находились в самом низу экономической пирамиды ренессансной Флоренции. Каменщики «Тополино» и Микеле ди Пьеро Пиппо были искусными ремесленниками. Чаще всего они работали за плату 10–12 часов в день пять дней в неделю, но их заработок никак не успевал за ростом цен.
Рядовые рабочие и подмастерья на стройках, например, те, кто помогал Микеланджело в работе в Сан-Лоренцо,
находились в еще более тяжелом положении. Их обычно нанимали либо для выполнения конкретной работы, либо поденно. Зимой работа оплачивалась хуже. Даже летом строительные рабочие получали так мало, что современные историки используют их в качестве меры бедности во Флоренции эпохи Ренессанса.
Якопо Сальвиати: структурное неравенство
Что делало Якопо Сальвиати столь влиятельным членом флорентийского общества и помогло ему сыграть важную роль в создании «Давида»? Это не только его богатство, но и видное положение в городских гильдиях (Arti). Члены комитета собора, которые заказали Микеланджело «Гиганта», происходили из гильдии сукноделов – Арте делла Лана. Их участие в этом важнейшем проекте показывает, какую важную роль гильдии и их члены играли в городском обществе. Именно гильдии были «кукловодами» флорентийской экономики. В 1499 г. Сальвиати стал приором всей системы гильдий (т. е. их представителем в правительстве), поэтому мог считаться главным над всеми.
Арте делла Лана была одной из 21 гильдии Флоренции. В целом гильдия являлась эксклюзивным самосохраняющимся обществом торговцев и ремесленников. Она определяла стандарты мастерства, производительности и подготовки в рамках определенной отрасли и представляла интересы своих членов в городе. Но этим функции гильдий не ограничивались. Обладая широкой властью, гильдии занимались разрешением кризисов, решением трудовых споров и поддержанием дисциплины. В случае изменения экономической обстановки гильдия могла ограничить производство в определенных мастерских или перевести рабочую силу в другое место для предотвращения проблем. Если между членами гильдии или между членом гильдии и другим человеком возникали споры, гильдия выступала в качестве последника. Но самое главное – гильдии следили за соблюдением стандартов, а это означало, что основные силы тратились на обеспечение подчинения правилам. Те, кто платил своим рабочим слишком много, чьи товары не соответствовали стандартам качества, подвергались наказаниям.
21 гильдия Флоренции охватывала все стороны квалифицированного или специализированного труда. Имелась гильдия мясников (Беккаи), пекарей (Форнаи), столяров и изготовителей мебели (Леньяйоли), адвокатов и нотариусов (Джудичи е Нотаи), каменщиков, плотников и изготовителей кирпичей (Маэстри ди пьетра э леньяме), кожевенников и меховщиков (Ваиаи э Пелличчиаи), кузнецов и изготовителей инструментов (Фаббри).
Но не все гильдии были равны. В системе гильдий имелось 14 «младших» и семь «старших» гильдий. Причины того были чисто политическими, но разделение отражало сравнительную значимость различных ремесел во флорентийской экономике. Статус гильдий банкиров (Камбио), внешних торговцев (Калимала) и изготовителей шелка (Сета, порт Санта-Мария) был выше, чем статус гильдий отельеров (Альбергатори) или замочных мастеров (Кьявайоли).
Эксклюзивная и строго иерархическая Арте делла Лана – гильдия сукноделов – считалась самой важной и влиятельной. Ее деятельность являлась восплощением экономических условий, в которых Микеланджело выполнял полученный заказ.
Арте делла Лана не только регулировала деятельность в сфере производства шерсти, но еще и обеспечивала абсолютное главенство города в европейской торговле тканями. Дом гильдии, впечатляющий палаццо дель Арте делла Лана, находился напротив Орсанмикеле, совсем рядом с площадью Синьории. Гильдия объединяла самых богатых производителей Флоренции и твердо отстаивала собственные интересы. Обычные работники – сукновалы, чесальщики и прядильщики – в руководство гильдии не входили, но не могли сформировать и собственную организацию. В результате они полностью зависели от торговцев и производителей, что вызывало постоянную напряженность в отношениях с гильдией.
Те, чья роль давала какую-то экономическую силу, всегда могли прибегнуть к забастовке, когда условия становились совершенно невыносимыми. В 1370 г. красильщики пошли на такой шаг, чтобы потребовать более высокой цены на крашеные ткани. Но подмастерья и те, чья работа требовала минимума специализированных навыков, не имели никакой экономической силы. Их возможности были весьма ограничены. Трепальщики, которые с помощью ивовых прутьев выбивали загрязнения из только что промытой сырой шерсти и трепали волокна, и чесальщики, которые плоскими гребнями разделяли шерстяные волокна, подготавливая шерсть к прядению, для производства сукна были необходимы, но находились на минимальной оплате и постоянно балансировали на пороге нищеты, особенно в трудные времена. Несмотря на то что в 1370-е и 1380-е гг. таких работников, занимавших низшую ступень экономической лестницы (popolo minuto), насчитывалось около 15 тысяч, им было категорически запрещено образовывать какие-то организации, что позволило бы им координировать собственные действия и как-то влиять на свое положение.
Абсолютное неравенство, закрепленное системой гильдий, порождало конфликты – особенно у сукноделов. Первые симптомы этого стали появляться уже в середине XIV в., когда сокращение населения повысило роль неимущих. В 1345 г. некоего Чуто Брандини осудили за организацию гильдии popoplo minuto в шерстяной отрасли. В судебных документах говорилось:
…вместе со многими другими, соблазненными им он решил по собственному разумению образовать братство… чесальщиков и других работающих в цехе шерстянщиков в возможно большем количестве. Чтобы они могли собираться и избирать советников и глав своего братства… он устроил собрания по разным поводам и в разные дни множества людей низшего сословия. Помимо прочего на этих собраниях Чуто приказал собирать деньги с тех, кто присутствовал на них… чтобы они стали сильнее и выносливее…
Созданное для заключения «коллективного договора» братство Чуто по современным меркам может показаться совершенно безвредным. Но для тогдашних торговцев это была серьезная угроза. Суд заклеймил протогильдию Чуто как «злонамеренную», а ее цели были признаны «вызывающими ненависть… [против] тех состоятельных граждан, которые хотели помешать Чуто… достичь этих целей».
Под «ненавистью» здесь следует понимать «справедливую оплату», а под «состоятельными гражданами» – «алчных торговцев».
Но все это были еще цветочки. Летом 1378 г. накапливавшееся недовольство выплеснулось в новый бунт – восстание чомпи. Popolo minuto, недовольные тем, что их не допускают в гильдии, а городское правительство ничего не делает, чтобы противостоять этому, собрались так же, как и в 1345 г., и выдвинули ряд требований, список которых предъявили приорам 21 июля. Хотя среди требований были и связанные с долгами и принудительными займами, основным оставалось требование создания отдельной гильдии «чесальщиков, трепальщиков, щипалыциков и других рабочих-шерстянщиков»
, которые до сего времени находились под пятой Арте делла Лана. Приоры с возмущением отклонили все эти требования.
Рабочие пришли в ярость и пошли на штурм Палаццо Веккьо. Они «выбросили и сожгли… все документы, которые смогли найти», и отказались уходить. На следующее утро они выбрали гонфалоньером справедливости чесальщика Микеле ди Ландо
и приступили к выборам новых приоров из собственных рядов. Когда отзвонили праздничные колокола, свежеизбранная Синьория немедленно приступила к еще более кардинальной реорганизации структуры гильдий, чем требовалось изначально.
Несмотря на поддержку других слоев общества, это было народное правительство, причем во многих отношениях по-настоящему революционное. Но действовало оно недолго. Несмотря на коллективную силу, новые гильдии Микеле ди Ландо просто не могли противостоять колоссальному богатству торговой элиты Флоренции. Члены Арте делла Лана прекратили деятельность, т. е. лишили чомпи-шерстянщиков хлеба с маслом. Общность интересов, которая была основой восстания, дрогнула. Чомпи сделали последнее усилие, но потерпели поражение в жестокой битве 31 августа 1378 г., когда им противостояли объединенные силы банкиров, торговцев и ремесленников. Революция закончилась, и горькое неравенство системы гильдий, крещенное слезами неимущих, стало неотъемлемой чертой флорентийской экономики вплоть до 1534 г., когда герцог Алессандро де Медичи окончательно реорганизовал гильдии.
Якопо Сальвиати играл важнейшую роль в структуре гильдий, благодаря чему пользовался колоссальным влиянием не только во флорентийской экономике в целом, но и на всех этапах работы над «Давидом». Микеланджело работал над статуей в начале XVI в. и был скован правилами флорентийских гильдий, как будто являлся их активным членом. Монументальную статую заказала самая влиятельная гильдия города. Покровителями скульптора были люди, игравшие видные роли в «старших» гильдиях. Его помощники жили и трудились по правилам гильдии, а подмастерья находились на грани нищеты из-за структуры гильдий. Будучи художником – даже свободным художником – Микеланджело сотрудничал с гильдиями и был обязан соблюдать нормы, установленные ими в экономической жизни Флоренции.
Пьеро Содерини: политическое неравенство
Если Якопо Сальвиати воплощал собой экономические условия, от которых зависело создание «Давида», то его добрый друг и коллега Пьеро Содерини служил символом политических влияний, которые Микеланджело должен был учитывать в процессе работы над проектом.
Худой, мрачный Содерини был главой флорентийского государства.
Большую часть жизни он провел на службе города. После падения Савонаролы его сочли надежным правителем, и он получил пожизненный пост гонфалоньера справедливости (gonfaloniere di giustizia). Этот шаг должен был дать какое-то подобие стабильности городу, переживавшему трудные времена. Хотя Содерини и нельзя считать идеальным правителем, он правил мудро и справедливо. Он обладал высокой общественной моралью и руководствовался ею в своих действиях. Он был свидетелем тягот правления Медичи и Савонаролы и преисполнился решимости сделать так, чтобы город мог в полной мере насладиться вкусом «народного» управления.
Содерини прекрасно осознавал «пропагандистский» потенциал искусства. Он считал, что такие работы, как «Давид», могут сыграть важную роль в подъеме гражданского духа, который должен был служить оплотом общественной жизни для будущих поколений.
Идея была не нова. Почти за два века до этого аналогичные обстоятельства были отображены на фресках Амброджо Лоренцетти «Аллегория хорошего и плохого правления» в зале деи Нове в Палаццо Пубблико в Сиене
. Фрески Лоренцетти – это глубокое и сложное аллегорическое восхваление республиканских добродетелей. Они говорят о том, что художник тонко чувствовал тенденции современной политической мысли. Судя по всему, между художником и городскими властями шел непрерывный диалог. Но, учитывая полученную в наследство политическую ситуацию, Содерини относился к «Давиду» по-особому. Он лично контролировал ход работ Микеланджело с самого начала. Хотя статуя была заказана комитетом собора, она должна была восхвалять республиканские «свободы». В конце концов статую установили у главных врат Палаццо Веккьо, где она стала мощным символом не просто независимости Флоренции от внешних агрессоров, но и способности города к самостоятельному управлению. В глазах Содерини «Давид» был символом силы и стойкости города, объединившегося под знаменем республиканской свободы.
Как современные демократии, республика, которой управлял Содерини, была разделена на две части. Исполнительная власть находилась в руках Синьории, состоявшей из восьми приоров, каждый из которых служил один срок – два месяца. Гонфалоньер справедливости обычно избирался на столь же краткий срок, но Содерини получил этот пост пожизненно. Таким образом, комитет из девяти человек обладал колоссальной властью. За 70 лет до этого Грегорио Дати писал, что обычно Синьория следила лишь за исполнением законов, но обладала «неограниченной властью и авторитетом» и в экстренных ситуациях могла делать то, что считали необходимым ее члены.