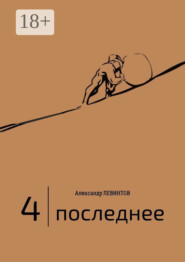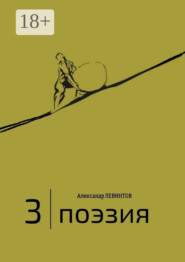По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек, давший душе язык. Рядом с Достоевским
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Игорный бизнес развился на курортах Европы (Карлсбад, Мариенбад, Висбаден, Французская Ривьера) неслучайно: это вполне доступное развлечение для богатых больных. В России вместо казино на водах процветали пьянки и дуэли, а в Америке игорный бизнес возник не на воде, а на алкоголе, на мафиозной основе времен сухого закона и потянул за собой туризм, свадебный бизнес и проституцию, а также образование как следствие расцвета проституции. Мир полон разнообразия, что радует.
В городе есть улица Достоевского, но не из центральных, в основном же в названиях преобладают длиннющие и непроизносимые имена кайзеров, принцев и других забытых знаменитостей.
Из Рулетенбурга можно быстро, на простом автобусе, добраться до Майнца, уже на берега Рейна. Этот городок знаменит своими многочисленными и еще более внушительными соборами. К тому же он хоть немного обитаем: вы можете встретить тут на улице длиннополого молодого человека с летящей походкой конца 18 века, пухлое семейство бюргеров, украшенное чисто германским малюткой в коляске (такой маленький, а уже умеет говорить по-немецки – и без всякого акцента!), студентов-вагабундов, выкуривающих за одну кружку по пол-пачки сигарет. Почти все они будут немцами.
Стоит предупредить также, что в Германии полно русских. Как только наступает ситуация, когда никого нет и ненадобно, раздается русская речь. Русские мгновенно угадывают и вычисляют друг друга, они недоверчиво, почти враждебно смотрят друг на друга и тут же переходят между собой на зловещий шепот. Конечно, если выйти на связь, мы охотно протянем друг другу руку информационной помощи, но сделаем это покровительственно, с легким пренебрежением и удивлением: «А ты-то что тут делаешь?».
Ноябрь 2001 года, Марина
Роман длиною в несколько абзацев
Леонид Цыпкин «Лето в Бадене», Москва, НЛО, 2003, 219 с.
Так получилось, что эту книгу о Достоевском я читал параллельно просмотру многосерийной мыльной оперы «Идиот»: что может быть более поразительно несхожего – поверхностное баловство, рассчитанное на коммерческий успех, и углубленный взгляд патологоанатома, потому как Леонид Цыпкин – не просто патологоанатом, а доктор наук в этом деле, единственном медицинском деле, где не лечат и потому лучше всех других разбираются в болезнях, даже не в болезнях, а в причинах смерти, проникая сквозь ткани и покровы внешности, безошибочно угадывая, с манией последней честности, когда врать уже бесполезно и некому, наше смертельное нам нутро во всей его ужасающей красоте и кроваво-яростной гармонии битвы жизнью со смертью внутри каждого из нас. Доктор Цыпкин продолжил русскую традицию совмещения в одном человеке и врача и писателя, традицию, начатую Чеховым, продолженную Вересаевым, Булгаковым, Аксёновым, Гориным и подхваченную еще многими, уже не столь славными. Чтобы определить жанр этого произведения, необходимо построить довольно сложный компрегентный ряд, каждый раз указывая, чем не является «Лето в Бадене»: это не «Путешествие из Петербурга в Москву», потому что это путешествие из Петербурга в Ленинград, стало быть, путешествие не в пространстве, а во времени; но это и не «Москва-Петушки», потому что это поток не сознания, а мышления; это также не «Путешествие в страну Востока», потому как здесь нет никакого умиления и созерцания, а есть чисто патолого-анатомическое ковыряние в собственных и чужих болячках, язвах, гнойниках и порезах о собственную судьбу. Разумеется, это и не литературоведческое исследование творчества Достоевского, поскольку мы имеем дело с литературным произведением, романом, герои которого – автор, Достоевский и его жена Анна Григорьевна, какие-то еще люди, вроде г-на Белинского или хозяйки гостиницы в Бадене, Гиля, все они действуют в одном миропространстве, промозглом и зябком – что в зимнем Питере, что в летнем Бадене, что в промежуточных и межумочных Базеле и Твери, все они – литературно достоверны, и не по факту, нарытому в ходе исследования, а по особому духу и мрачной атмосфере жизни Достоевского, Цыпкина и каждого из нас. Автор, будучи евреем, пытается проникнуть в смысл антисемитизма Достоевского, хотя евреи в иерархии ксенофобии Федора Михайловича занимают не первое место: там прочно обосновались полячишки – оно и понятно, ведь Достоевский сам из самой захолустной и больной польской шляхты, где гонору, может быть, даже больше, чем врожденной шизофрении и паранойи. Чтобы понять антисемитизм Достоевского, строго говоря, никогда и не бывавшего в клоповниках черты оседлости, а знакомого с этим народом-племенем более понаслышке, чем воочию, надо понять, чего более всего он боялся и что всю жизнь преследовало его: бедность и безденежье. Для него евреи, жидки с жидятами и были воплощением этой вечной нужды, этого кропотливого, до кровавого пота, выжимания копейки из таких же бедолаг и бедняков, из самой этой проклятой жизни, грязной, застиранной, засаленной, многодетной, крикливой, тужащейся быть по образу и подобию Того, кому просто уже надоело смотреть на эти корчи. Российско-польско-немецкие евреи вызывали в нем судорогу омерзения и подозрительности, потому что кто они такие, что говорят по-немецки, а пишут те же самые немецкие слова на своем каракулевом иврите? Прозорливец, он чувствовал и предчувствовал – они и русскую культуру, и русский язык и его самого захватят и заполонят собой и будут писать свои, пусть и прекрасные, но все равно еврейские стихи на русском языке, рисовать русские пейзажи и даже русского, православного Бога своими еврейскими руками и душами, о, он прекрасно предвидел, что русским придется сильно потесниться и уступить этому гортанному люду чуть ни лучшие куски чуть ни в центре и во главе стола спасающей мир России. А вообще его ксенофобия приобретала порой тотальные масштабы – и уже терялась национальность враждебных лиц, это была толпа неважно какого кроя рож, улюлюкающая и насмехающаяся над ним, единственным, «последним в своем роде» представителем нации под названием достоевский. Иногда эта толпа фокусировалась в одном, страшном до рокового лице, преследовавшем его на променадах Бадена или Раскольникова и Мышкина – в подворотнях Петербурга. Они все, достоевские, были одними на белом свете, совсем одними, в одиночестве окружающего их и ненавидимого, презираемого человечества, готового быть счастливым на слезинке замученного невинного ребенка, а потому несчастного, неисправимо несчастного человечества. И вот, побиение камнями, которого так страшился Достоевский, оказалось жизненной нормой Цыпкина: то было побиение камнями умолчания и замалчивания. И есть что-то глубоко советское в невыездном и даже находящемся в отказе патологоанатоме. Ведь уж его-то нельзя причислить к лику убийц в белых халатах, а смерть, которую он препарировал в морге, по счастью, беспартийна. Четыре года, положенные на «Лето в Бадене», и одинокие вечера укромного сочинительства – вот, собственно, и весь творческий путь – это позволяет ему писать более по-достоевски, чем Достоевскому, что должно принести Федору Михайловичу болезненно-сладкую и тягучую муку наконец-то-понимания – и кем! еврейским патологоанатомом, черт побери его и всю Вселенную вместе с ним. Нет, даже не сама нищета и бедность, а страх бедности, страх стать таким же, как это проклятое Богом иудино племя, сделало писателя антисемитом. Достоевский до того пугался не покидавшей его нужды, что своего идеального человека, князя Мышкина, идиота, щедро наградил огромным наследством, но он и сам не знал, что делать с такими деньжищами, не отправлять же, в самом деле, этого идеала на воды играть в рулетку, а потому, заставив князя раздать и распатронить зазря нагрянувшее богатство – а что бы делал сам Достоевский, случись ему как-нибудь ненароком разбогатеть? Ведь нелепо же, наверняка, распорядился бы деньгами и не нажил бы ими других денег, а на что еще нужны деньги, как не на приумножение их и привлечение к ним других денег? А, между прочим, нынешнему обществу, неважно где проживающему и по какому адресу прописанному, должно же быть когда-нибудь стыдно: в позапрошлом веке Достоевский 60-х годов, то есть уже автор «Преступления и наказания», «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных», но еще не написавший «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Бесов» и многого бессмертного другого, получал по сто рублей за лист и мог, пусть скверно и бедно, но существовать на эти жалкие (а современники, всякого рода и чина Тургеневы. Живя в основном на доходы от поместий. Получали по 400 за лист), Есенин в 20-ые прошлого века уже был вынужден сниматься в порнофильмах, чтобы платить за квартиру, Маяковский продался большевикам и рекламе, Булгаков сводил жалкие концы с еще более жалкими концами, заведуя литчастью МХАТа, Платонов зарабатывал свою чахотку дворником в Литературном институте – в сороковые, Цыпкин же в 70-80-е, кажется, не заработал на своем каторжно-литературном поприще ни фартинга. Стыдно и неприлично здесь говорить о себе, но все-таки за многие годы литературного труда в том и этом веке, за сотни текстов, от стихов до многотомных книг, за около тысячи литературных публикаций и на родине, и за ее необъятными пределами я не заработал тех денег, что зарабатываю за дюжину вечеров в месяц, развозя в маленьком уютном калифорнийском городке пиццу. Это не жалоба неудачливого и неказистого писателя, это – патологоанатомическое заключение по поводу отношения современного общества к литературе и прочим художествам: говорите спасибо, что мы вас иногда читаем и смотрим, а не сразу нарезаем селедку на ваших произведениях – играй в свою рулетку Достоевский не в Бадене, а в Лас Вегасе, и у него развилась бы тяжелейшая ксенофобия относительно не вертлявых евреев, вкрадчивых полячишек и провонявших всякой дрянью французиков, а вертлявых, вкрадчивых и провонявших всякой дрянью китайцев, таких же азартных, как и сам Федор Михайлович. А евреи, ну что евреи? В каждом еврее достаточно собственного антисемитизма, чтобы рассматривать чужой как расовое преступление и вмешательство не в свои дела. Литература, как и любое другое искусство, может совершенно по-разному воздействовать на нас, читателей, зрителей, слушателей: либо перед нами открывается нечто новое и неслыханное в авторе, либо мы обнаруживаем это новое и неслыханное в себе. Достоевский и Цыпкин действуют одинаково – они открывают нам нас самих, они озвучивают нам наши чувства и мысли, они воплощают их в слове. И нам, строго говоря, плевать, что самым большим недостатком Федора было то, что он был глубоко несчастлив, а самым большим недостатком Леонида – что он был к тому же еще и непризнаваем как писатель, как серьезнейший и глубочайший писатель своего времени, которое неизвестно, когда началось, и теперь неизвестно, когда кончится, потому что его звезда только начинает восходить. Достоевский и Цыпкин, оба, постоянно и ничем не прикрываясь, теребят и требуют от нас: «Посмотри, как далеко ты от себя». И вместе с тем, «Лето в Бадене» – это литературная лента Мёбиуса: это постоянное изучение себя в Достоевском и Достоевского в себе. И потому это кропотливое вскрытие производит такое сильное впечатление: вот же я, в отличие от невыездного Леонида, был в пустынном и пустом Бадене, и гулял с женой в поисках чего-нибудь достоевского, но было выходное утро, и даже казино еще было закрыто, и только театральная афиша на бывшей галерее указывала, что здесь дается «Игрок», и что главные роли исполняют русские актеры, и мы сфотографировались возле дорогущего лилипута «Смарт», которого нам, конечно, никогда не купить, да и ехать на нем нам решительно некуда, а поставить хотя бы один талер на zero не позволяют время и отсутствие галстука в моем костюме, черт знает что, а не Германия, ведь у нас в Лас-Вегасе казино работают круглосуточно и приходи хоть в домашних тапочках – да многие так и поступают – садись за игорный стол или однорукого бандита, с которым надо уметь играть, с которым надо войти в доверительный контакт и договор, кто сколько и кому может и должен уступить времени и денег, а иначе спустишь все – быстро и без затей, и даже традиционно полураздетая красотка не успеет принести тебе поганенький хайбол или глоток дешевого коньяку. А писать надо так, как пишет Леонид Цыпкин, то есть анатомически безжалостно к самому себе, наперегонки со своей смертью, будто это написанное – единственное и последнее, после которого ничего уже не будет, кроме тишины и пустоты, а потому надо сказать и написать все разом и разом обо всем, до конца и последней черточки, последней извилины сосредоточенного мозга.
Декабрь 2003, Марина
Достоевский и евреи. Еврейская месть
У К. Юнга есть одна коротенькая и малозаметная мысль: религия контрастна нравам народа, придерживающегося этой религии и призвана противостоять этим нравам.
Так, христианство Иисуса Христа было явно, откровенно направлено против иудеев:
против их нетерпимости, воинствующего догматизма, как религиозного, так и атеистического (от Иисуса Навина, остановившего Солнце, чтобы доистребить на поле Армагеддон несчастных филистимлян, до воинствующих безбожников во главе с Ем. Ярославским\Губельманом) – «Вы слышали, что сказано „око за око, и зуб за зуб“, а Я говорю вам: не противься злому, Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мтф. 5. 38—39), «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мтф.5.44) «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мтф. 5.20)
против их пристрастия к учености и многомудрию – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мтф. 5.3)
против их чванства перед всеми другими, неизбранными народами – «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мтф. 5.11).
против их демонстративной религиозности – «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что ни уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мтф. 6.1—6)
Все это говорится Иисусом не в малозначительных эпизодах его Учения, а в Нагорной Проповеди, центральном портале Нового Завета.
В дальнейшем три основные ветви христианства (православие, католицизм и протестантизм) стали разниться между собой именно теми сторонами, что выражались контрастом для нравов принявших их народов.
Так, православие изначально противопоставилось рабской натуре славян и воспитывало в них самостоятельность духовности и мышления. Путь, пройденный православием среди русских и родственных им народом, оказался путем адаптации религии к народному нраву, превращению русского православия в нравственное единство с народом, включая такие неблаговидные его черты, как лукавство, вороватость, хамскую беззастенчивость.
Католицизм противопоставился языческой духовной всеядности, попустительству и терпимости нравов к любым извращениям. Долгое общение католицизма с католическими народами привело к тому, что оно в своем современном виде обросло такими чертами и характеристиками, как конформизм, предприимчивость, ситуативность, отказ от онтологического тоталитаризма, освящение собственности и социального неравенства, безответственность.
Протестантизм возник из желания индивидуализации веры, приближения верующего к вероучению и в поисках индивидуального спасения. Современный протестантизм стал религией стяжательства и примитивизации религиозного чувства, социализации церкви, выражением буржуазных (=урбанистических) и индустриальных ценностей. Протестантизм в большей степени, чем католицизм и православие, оказался в противоречии и противопоставлении идеям, ценностям и установкам первохристианства.
Эта тенденция выворачивания изначального содержания религии чуть ли не наизнанку характерна не только для христианства, но и для ислама, ориентированного в начале пути на просвещение и прогресс, но ставшего сегодня косной силой консерватизма, фундаментализма и регресса.
Стремление церквей перевоспитать и переделать нравственные устои народов терпит историческое фиаско. Банкротство церквей выражается в том, что они в этом историческом соприкосновении с человеческой природой «очеловечиваются» в худшем смысле этого слова.
Совершенным контрастом христианству и исламу выступает иудаизм. Эта религия сама сформировала себе народ-носитель. Иудаизм за счет своей жесткой замкнутости, ортодоксальности, догматичности не только сохранил себя практически в неприкосновенности, но и избранный им для ношения себя народ. Евреи ненавидимы и гонимы всеми остальными народами в течение всех тысячелетий и столетий своего существования практически за одно и то же: гордыню, воинственность, эгоизм, стремление к обогащению за счет других и т. п.
Как известно, Ф. М. Достоевский был антисемитом, ярко выраженным антисемитом. Нет смысла и резонов цитировать его многочисленные антисемитские высказывания, разбросанные и в его художественных произведениях, и в «Дневнике писателя», и в частной переписке.
Антисемитизм личностей менее значительных, например, Н. Лескова, неинтересен: ну, антисемит, ну, в Орле почти все антисемиты, если не считать владельца аптеки в самом центре города, еврея из Киева, отца будущей леди №1 Брежневой.
Достоевский – фигура не только общемирового масштаба, но и носитель самых ярких идей православного христианства.
Как мне кажется, антисемитизм Достоевского имел две основные причины.
Одна – сугубо социальная.
Будучи выходцем из захудалого, болезненного и беднейшего дворянства на жуткой в своей затхлости окраине все той же Орловской губернии (потом эта территория вошла в Пинскую область Беларуси, ныне не существующую), писатель всю жизнь инстинктивно боялся оказаться в отчаянном положении нищего местечкового еврея, которыми, как клопами, кишели мелкие города и городишки Германии, Польши, а также западных пределов России. Его страшила эта столь возможная для него перспектива и вызывала судорогу отчаянного омерзения.
Другой причиной была… духовная зависть.
Достоевскому была видна и понятна сила и власть иудаизма над иудеями. И он искренне желал того же своему народу, русским, он жаждал видеть свой народ как сформированный православием. Увы, это было не так, исторически не так, вопреки чаяниям великого писателя. Это было не так и исторически и по факту вопиюще нехристианского нрава и поведения русского народа. И само православие к концу 19 столетия сильно ушло от христианства, порой сознательно (в силу своей секуляризации), часто неосознанно, в силу трения с русским народом, во многом так и оставшимся языческим (из-за, например, насильственной христианизации в 10-ом веке). И сам русский православный народ, расколотый самою церковью на никониан и староверов, стал маловерным, шатким в вере и лукавым.
Кроме того, в отличии от ненавидимых евреев, на стойкости веры которых бедность и нищета сказывались скорее даже благотворно, чем пагубно, русский православный люд – и Достоевский не мог не видеть и не понимать этого – от беспросветности нищеты и голода мало-помалу терял и веру и образ христианского народа.
Антисемитизм Достоевского, даже необъясняемый, понятен и приемлем русскими, он органичен русским, как он, антисемитизм, органичен арабам и немцам, французам и англосаксам, полякам и испанцам, православным, католикам, протестантам и мусульманам – просто в силу того, что не они сформированы своей религией, а сформировали свои религии, адаптировали эти религии под себя, под свои нравы, обычаи и природы.
Мстительность евреев порой носит странный характер. Они по-своему, очень своеобразно, но и очень жестоко отомстили антисемиту Достоевскому.
Евреи – лучшие читатели Достоевского. Евреи глубже и сильнее всех прочих понимают Достоевского, особенно его религиозные метания и поиски, напряженность его исповедальческих откровений и вопрошаний. Обливаясь слезами и состраданием, евреи создали несомненно лучшую критическую и интерпретационную литературу по творчеству Достоевского. На всех языках и во всех европейских культурах, включая русскую.
Февраль 2006, Москва
Шестое завещание Достоевского
странный опыт театральнойрецензии
Роман «Братья Карамазовы» – последнее произведение писателя, уже чувствовавшего свою смерть, понимавшего, остро и мучительно, свой близкий конец. И потому этот роман – своеобразная автобиография. С беспощадной честностью к себе Достоевский вписал в криминальный сюжет себя, распотрошив свою глубинную сущность, распатронив душу свою, неистовую и мятущуюся, по всем четырем братьям и их отцу. В каждом из этих персонажей и еще в старце Зосиме он распахнулся нам явственно, зримо, во всей противоречивости и измотанности своей жизни накануне и в предвкушении близкой смерти и бессмертия.
В городе есть улица Достоевского, но не из центральных, в основном же в названиях преобладают длиннющие и непроизносимые имена кайзеров, принцев и других забытых знаменитостей.
Из Рулетенбурга можно быстро, на простом автобусе, добраться до Майнца, уже на берега Рейна. Этот городок знаменит своими многочисленными и еще более внушительными соборами. К тому же он хоть немного обитаем: вы можете встретить тут на улице длиннополого молодого человека с летящей походкой конца 18 века, пухлое семейство бюргеров, украшенное чисто германским малюткой в коляске (такой маленький, а уже умеет говорить по-немецки – и без всякого акцента!), студентов-вагабундов, выкуривающих за одну кружку по пол-пачки сигарет. Почти все они будут немцами.
Стоит предупредить также, что в Германии полно русских. Как только наступает ситуация, когда никого нет и ненадобно, раздается русская речь. Русские мгновенно угадывают и вычисляют друг друга, они недоверчиво, почти враждебно смотрят друг на друга и тут же переходят между собой на зловещий шепот. Конечно, если выйти на связь, мы охотно протянем друг другу руку информационной помощи, но сделаем это покровительственно, с легким пренебрежением и удивлением: «А ты-то что тут делаешь?».
Ноябрь 2001 года, Марина
Роман длиною в несколько абзацев
Леонид Цыпкин «Лето в Бадене», Москва, НЛО, 2003, 219 с.
Так получилось, что эту книгу о Достоевском я читал параллельно просмотру многосерийной мыльной оперы «Идиот»: что может быть более поразительно несхожего – поверхностное баловство, рассчитанное на коммерческий успех, и углубленный взгляд патологоанатома, потому как Леонид Цыпкин – не просто патологоанатом, а доктор наук в этом деле, единственном медицинском деле, где не лечат и потому лучше всех других разбираются в болезнях, даже не в болезнях, а в причинах смерти, проникая сквозь ткани и покровы внешности, безошибочно угадывая, с манией последней честности, когда врать уже бесполезно и некому, наше смертельное нам нутро во всей его ужасающей красоте и кроваво-яростной гармонии битвы жизнью со смертью внутри каждого из нас. Доктор Цыпкин продолжил русскую традицию совмещения в одном человеке и врача и писателя, традицию, начатую Чеховым, продолженную Вересаевым, Булгаковым, Аксёновым, Гориным и подхваченную еще многими, уже не столь славными. Чтобы определить жанр этого произведения, необходимо построить довольно сложный компрегентный ряд, каждый раз указывая, чем не является «Лето в Бадене»: это не «Путешествие из Петербурга в Москву», потому что это путешествие из Петербурга в Ленинград, стало быть, путешествие не в пространстве, а во времени; но это и не «Москва-Петушки», потому что это поток не сознания, а мышления; это также не «Путешествие в страну Востока», потому как здесь нет никакого умиления и созерцания, а есть чисто патолого-анатомическое ковыряние в собственных и чужих болячках, язвах, гнойниках и порезах о собственную судьбу. Разумеется, это и не литературоведческое исследование творчества Достоевского, поскольку мы имеем дело с литературным произведением, романом, герои которого – автор, Достоевский и его жена Анна Григорьевна, какие-то еще люди, вроде г-на Белинского или хозяйки гостиницы в Бадене, Гиля, все они действуют в одном миропространстве, промозглом и зябком – что в зимнем Питере, что в летнем Бадене, что в промежуточных и межумочных Базеле и Твери, все они – литературно достоверны, и не по факту, нарытому в ходе исследования, а по особому духу и мрачной атмосфере жизни Достоевского, Цыпкина и каждого из нас. Автор, будучи евреем, пытается проникнуть в смысл антисемитизма Достоевского, хотя евреи в иерархии ксенофобии Федора Михайловича занимают не первое место: там прочно обосновались полячишки – оно и понятно, ведь Достоевский сам из самой захолустной и больной польской шляхты, где гонору, может быть, даже больше, чем врожденной шизофрении и паранойи. Чтобы понять антисемитизм Достоевского, строго говоря, никогда и не бывавшего в клоповниках черты оседлости, а знакомого с этим народом-племенем более понаслышке, чем воочию, надо понять, чего более всего он боялся и что всю жизнь преследовало его: бедность и безденежье. Для него евреи, жидки с жидятами и были воплощением этой вечной нужды, этого кропотливого, до кровавого пота, выжимания копейки из таких же бедолаг и бедняков, из самой этой проклятой жизни, грязной, застиранной, засаленной, многодетной, крикливой, тужащейся быть по образу и подобию Того, кому просто уже надоело смотреть на эти корчи. Российско-польско-немецкие евреи вызывали в нем судорогу омерзения и подозрительности, потому что кто они такие, что говорят по-немецки, а пишут те же самые немецкие слова на своем каракулевом иврите? Прозорливец, он чувствовал и предчувствовал – они и русскую культуру, и русский язык и его самого захватят и заполонят собой и будут писать свои, пусть и прекрасные, но все равно еврейские стихи на русском языке, рисовать русские пейзажи и даже русского, православного Бога своими еврейскими руками и душами, о, он прекрасно предвидел, что русским придется сильно потесниться и уступить этому гортанному люду чуть ни лучшие куски чуть ни в центре и во главе стола спасающей мир России. А вообще его ксенофобия приобретала порой тотальные масштабы – и уже терялась национальность враждебных лиц, это была толпа неважно какого кроя рож, улюлюкающая и насмехающаяся над ним, единственным, «последним в своем роде» представителем нации под названием достоевский. Иногда эта толпа фокусировалась в одном, страшном до рокового лице, преследовавшем его на променадах Бадена или Раскольникова и Мышкина – в подворотнях Петербурга. Они все, достоевские, были одними на белом свете, совсем одними, в одиночестве окружающего их и ненавидимого, презираемого человечества, готового быть счастливым на слезинке замученного невинного ребенка, а потому несчастного, неисправимо несчастного человечества. И вот, побиение камнями, которого так страшился Достоевский, оказалось жизненной нормой Цыпкина: то было побиение камнями умолчания и замалчивания. И есть что-то глубоко советское в невыездном и даже находящемся в отказе патологоанатоме. Ведь уж его-то нельзя причислить к лику убийц в белых халатах, а смерть, которую он препарировал в морге, по счастью, беспартийна. Четыре года, положенные на «Лето в Бадене», и одинокие вечера укромного сочинительства – вот, собственно, и весь творческий путь – это позволяет ему писать более по-достоевски, чем Достоевскому, что должно принести Федору Михайловичу болезненно-сладкую и тягучую муку наконец-то-понимания – и кем! еврейским патологоанатомом, черт побери его и всю Вселенную вместе с ним. Нет, даже не сама нищета и бедность, а страх бедности, страх стать таким же, как это проклятое Богом иудино племя, сделало писателя антисемитом. Достоевский до того пугался не покидавшей его нужды, что своего идеального человека, князя Мышкина, идиота, щедро наградил огромным наследством, но он и сам не знал, что делать с такими деньжищами, не отправлять же, в самом деле, этого идеала на воды играть в рулетку, а потому, заставив князя раздать и распатронить зазря нагрянувшее богатство – а что бы делал сам Достоевский, случись ему как-нибудь ненароком разбогатеть? Ведь нелепо же, наверняка, распорядился бы деньгами и не нажил бы ими других денег, а на что еще нужны деньги, как не на приумножение их и привлечение к ним других денег? А, между прочим, нынешнему обществу, неважно где проживающему и по какому адресу прописанному, должно же быть когда-нибудь стыдно: в позапрошлом веке Достоевский 60-х годов, то есть уже автор «Преступления и наказания», «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных», но еще не написавший «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Бесов» и многого бессмертного другого, получал по сто рублей за лист и мог, пусть скверно и бедно, но существовать на эти жалкие (а современники, всякого рода и чина Тургеневы. Живя в основном на доходы от поместий. Получали по 400 за лист), Есенин в 20-ые прошлого века уже был вынужден сниматься в порнофильмах, чтобы платить за квартиру, Маяковский продался большевикам и рекламе, Булгаков сводил жалкие концы с еще более жалкими концами, заведуя литчастью МХАТа, Платонов зарабатывал свою чахотку дворником в Литературном институте – в сороковые, Цыпкин же в 70-80-е, кажется, не заработал на своем каторжно-литературном поприще ни фартинга. Стыдно и неприлично здесь говорить о себе, но все-таки за многие годы литературного труда в том и этом веке, за сотни текстов, от стихов до многотомных книг, за около тысячи литературных публикаций и на родине, и за ее необъятными пределами я не заработал тех денег, что зарабатываю за дюжину вечеров в месяц, развозя в маленьком уютном калифорнийском городке пиццу. Это не жалоба неудачливого и неказистого писателя, это – патологоанатомическое заключение по поводу отношения современного общества к литературе и прочим художествам: говорите спасибо, что мы вас иногда читаем и смотрим, а не сразу нарезаем селедку на ваших произведениях – играй в свою рулетку Достоевский не в Бадене, а в Лас Вегасе, и у него развилась бы тяжелейшая ксенофобия относительно не вертлявых евреев, вкрадчивых полячишек и провонявших всякой дрянью французиков, а вертлявых, вкрадчивых и провонявших всякой дрянью китайцев, таких же азартных, как и сам Федор Михайлович. А евреи, ну что евреи? В каждом еврее достаточно собственного антисемитизма, чтобы рассматривать чужой как расовое преступление и вмешательство не в свои дела. Литература, как и любое другое искусство, может совершенно по-разному воздействовать на нас, читателей, зрителей, слушателей: либо перед нами открывается нечто новое и неслыханное в авторе, либо мы обнаруживаем это новое и неслыханное в себе. Достоевский и Цыпкин действуют одинаково – они открывают нам нас самих, они озвучивают нам наши чувства и мысли, они воплощают их в слове. И нам, строго говоря, плевать, что самым большим недостатком Федора было то, что он был глубоко несчастлив, а самым большим недостатком Леонида – что он был к тому же еще и непризнаваем как писатель, как серьезнейший и глубочайший писатель своего времени, которое неизвестно, когда началось, и теперь неизвестно, когда кончится, потому что его звезда только начинает восходить. Достоевский и Цыпкин, оба, постоянно и ничем не прикрываясь, теребят и требуют от нас: «Посмотри, как далеко ты от себя». И вместе с тем, «Лето в Бадене» – это литературная лента Мёбиуса: это постоянное изучение себя в Достоевском и Достоевского в себе. И потому это кропотливое вскрытие производит такое сильное впечатление: вот же я, в отличие от невыездного Леонида, был в пустынном и пустом Бадене, и гулял с женой в поисках чего-нибудь достоевского, но было выходное утро, и даже казино еще было закрыто, и только театральная афиша на бывшей галерее указывала, что здесь дается «Игрок», и что главные роли исполняют русские актеры, и мы сфотографировались возле дорогущего лилипута «Смарт», которого нам, конечно, никогда не купить, да и ехать на нем нам решительно некуда, а поставить хотя бы один талер на zero не позволяют время и отсутствие галстука в моем костюме, черт знает что, а не Германия, ведь у нас в Лас-Вегасе казино работают круглосуточно и приходи хоть в домашних тапочках – да многие так и поступают – садись за игорный стол или однорукого бандита, с которым надо уметь играть, с которым надо войти в доверительный контакт и договор, кто сколько и кому может и должен уступить времени и денег, а иначе спустишь все – быстро и без затей, и даже традиционно полураздетая красотка не успеет принести тебе поганенький хайбол или глоток дешевого коньяку. А писать надо так, как пишет Леонид Цыпкин, то есть анатомически безжалостно к самому себе, наперегонки со своей смертью, будто это написанное – единственное и последнее, после которого ничего уже не будет, кроме тишины и пустоты, а потому надо сказать и написать все разом и разом обо всем, до конца и последней черточки, последней извилины сосредоточенного мозга.
Декабрь 2003, Марина
Достоевский и евреи. Еврейская месть
У К. Юнга есть одна коротенькая и малозаметная мысль: религия контрастна нравам народа, придерживающегося этой религии и призвана противостоять этим нравам.
Так, христианство Иисуса Христа было явно, откровенно направлено против иудеев:
против их нетерпимости, воинствующего догматизма, как религиозного, так и атеистического (от Иисуса Навина, остановившего Солнце, чтобы доистребить на поле Армагеддон несчастных филистимлян, до воинствующих безбожников во главе с Ем. Ярославским\Губельманом) – «Вы слышали, что сказано „око за око, и зуб за зуб“, а Я говорю вам: не противься злому, Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мтф. 5. 38—39), «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мтф.5.44) «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мтф. 5.20)
против их пристрастия к учености и многомудрию – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мтф. 5.3)
против их чванства перед всеми другими, неизбранными народами – «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мтф. 5.11).
против их демонстративной религиозности – «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что ни уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мтф. 6.1—6)
Все это говорится Иисусом не в малозначительных эпизодах его Учения, а в Нагорной Проповеди, центральном портале Нового Завета.
В дальнейшем три основные ветви христианства (православие, католицизм и протестантизм) стали разниться между собой именно теми сторонами, что выражались контрастом для нравов принявших их народов.
Так, православие изначально противопоставилось рабской натуре славян и воспитывало в них самостоятельность духовности и мышления. Путь, пройденный православием среди русских и родственных им народом, оказался путем адаптации религии к народному нраву, превращению русского православия в нравственное единство с народом, включая такие неблаговидные его черты, как лукавство, вороватость, хамскую беззастенчивость.
Католицизм противопоставился языческой духовной всеядности, попустительству и терпимости нравов к любым извращениям. Долгое общение католицизма с католическими народами привело к тому, что оно в своем современном виде обросло такими чертами и характеристиками, как конформизм, предприимчивость, ситуативность, отказ от онтологического тоталитаризма, освящение собственности и социального неравенства, безответственность.
Протестантизм возник из желания индивидуализации веры, приближения верующего к вероучению и в поисках индивидуального спасения. Современный протестантизм стал религией стяжательства и примитивизации религиозного чувства, социализации церкви, выражением буржуазных (=урбанистических) и индустриальных ценностей. Протестантизм в большей степени, чем католицизм и православие, оказался в противоречии и противопоставлении идеям, ценностям и установкам первохристианства.
Эта тенденция выворачивания изначального содержания религии чуть ли не наизнанку характерна не только для христианства, но и для ислама, ориентированного в начале пути на просвещение и прогресс, но ставшего сегодня косной силой консерватизма, фундаментализма и регресса.
Стремление церквей перевоспитать и переделать нравственные устои народов терпит историческое фиаско. Банкротство церквей выражается в том, что они в этом историческом соприкосновении с человеческой природой «очеловечиваются» в худшем смысле этого слова.
Совершенным контрастом христианству и исламу выступает иудаизм. Эта религия сама сформировала себе народ-носитель. Иудаизм за счет своей жесткой замкнутости, ортодоксальности, догматичности не только сохранил себя практически в неприкосновенности, но и избранный им для ношения себя народ. Евреи ненавидимы и гонимы всеми остальными народами в течение всех тысячелетий и столетий своего существования практически за одно и то же: гордыню, воинственность, эгоизм, стремление к обогащению за счет других и т. п.
Как известно, Ф. М. Достоевский был антисемитом, ярко выраженным антисемитом. Нет смысла и резонов цитировать его многочисленные антисемитские высказывания, разбросанные и в его художественных произведениях, и в «Дневнике писателя», и в частной переписке.
Антисемитизм личностей менее значительных, например, Н. Лескова, неинтересен: ну, антисемит, ну, в Орле почти все антисемиты, если не считать владельца аптеки в самом центре города, еврея из Киева, отца будущей леди №1 Брежневой.
Достоевский – фигура не только общемирового масштаба, но и носитель самых ярких идей православного христианства.
Как мне кажется, антисемитизм Достоевского имел две основные причины.
Одна – сугубо социальная.
Будучи выходцем из захудалого, болезненного и беднейшего дворянства на жуткой в своей затхлости окраине все той же Орловской губернии (потом эта территория вошла в Пинскую область Беларуси, ныне не существующую), писатель всю жизнь инстинктивно боялся оказаться в отчаянном положении нищего местечкового еврея, которыми, как клопами, кишели мелкие города и городишки Германии, Польши, а также западных пределов России. Его страшила эта столь возможная для него перспектива и вызывала судорогу отчаянного омерзения.
Другой причиной была… духовная зависть.
Достоевскому была видна и понятна сила и власть иудаизма над иудеями. И он искренне желал того же своему народу, русским, он жаждал видеть свой народ как сформированный православием. Увы, это было не так, исторически не так, вопреки чаяниям великого писателя. Это было не так и исторически и по факту вопиюще нехристианского нрава и поведения русского народа. И само православие к концу 19 столетия сильно ушло от христианства, порой сознательно (в силу своей секуляризации), часто неосознанно, в силу трения с русским народом, во многом так и оставшимся языческим (из-за, например, насильственной христианизации в 10-ом веке). И сам русский православный народ, расколотый самою церковью на никониан и староверов, стал маловерным, шатким в вере и лукавым.
Кроме того, в отличии от ненавидимых евреев, на стойкости веры которых бедность и нищета сказывались скорее даже благотворно, чем пагубно, русский православный люд – и Достоевский не мог не видеть и не понимать этого – от беспросветности нищеты и голода мало-помалу терял и веру и образ христианского народа.
Антисемитизм Достоевского, даже необъясняемый, понятен и приемлем русскими, он органичен русским, как он, антисемитизм, органичен арабам и немцам, французам и англосаксам, полякам и испанцам, православным, католикам, протестантам и мусульманам – просто в силу того, что не они сформированы своей религией, а сформировали свои религии, адаптировали эти религии под себя, под свои нравы, обычаи и природы.
Мстительность евреев порой носит странный характер. Они по-своему, очень своеобразно, но и очень жестоко отомстили антисемиту Достоевскому.
Евреи – лучшие читатели Достоевского. Евреи глубже и сильнее всех прочих понимают Достоевского, особенно его религиозные метания и поиски, напряженность его исповедальческих откровений и вопрошаний. Обливаясь слезами и состраданием, евреи создали несомненно лучшую критическую и интерпретационную литературу по творчеству Достоевского. На всех языках и во всех европейских культурах, включая русскую.
Февраль 2006, Москва
Шестое завещание Достоевского
странный опыт театральнойрецензии
Роман «Братья Карамазовы» – последнее произведение писателя, уже чувствовавшего свою смерть, понимавшего, остро и мучительно, свой близкий конец. И потому этот роман – своеобразная автобиография. С беспощадной честностью к себе Достоевский вписал в криминальный сюжет себя, распотрошив свою глубинную сущность, распатронив душу свою, неистовую и мятущуюся, по всем четырем братьям и их отцу. В каждом из этих персонажей и еще в старце Зосиме он распахнулся нам явственно, зримо, во всей противоречивости и измотанности своей жизни накануне и в предвкушении близкой смерти и бессмертия.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: