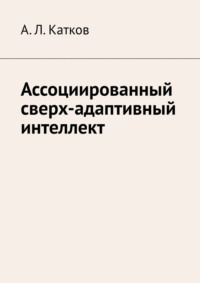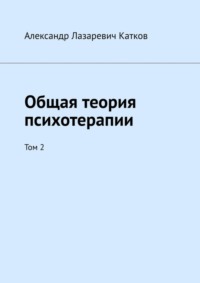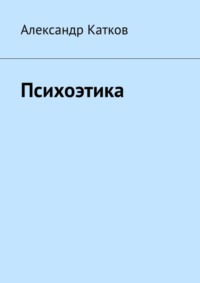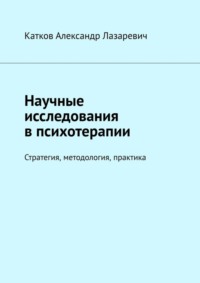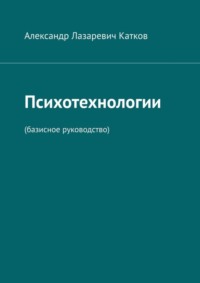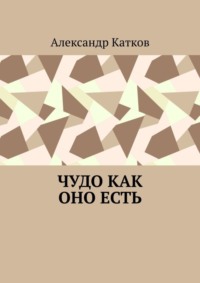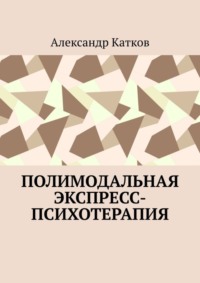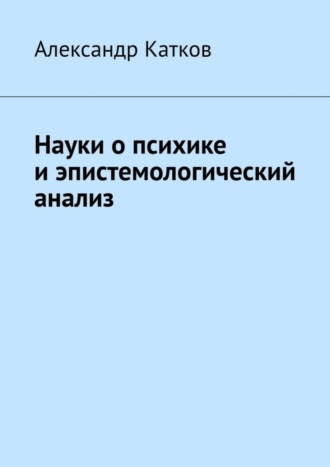
Науки о психике и эпистемологический анализ
Что же касается интереснейшего – во всех отношениях – процесса взаимодействия информации первого и второго порядка (т. е. полюсов «объективной» и «субъективной» информации), то мы показываем возможность непротиворечивого и неконфликтного, а наоборот, максимально креативного со-существования и со-развития этих полюсов в общем поле ассоциированной эпистемологической платформы. Такая проработанная эпистемологическая альтернатива, на наш взгляд, не отменяет, а только лишь подчеркивает значимость эпистемологических новаций выдающихся французских философов Гастона Башляра и Мишеля Фуко.
Полагаем, что проиллюстрированная возможность развития потенциала обсуждаемых философских построений Башляра и Фуко в предлагаемой нами версии метода культурно-исторической реконструкции в существенной мере способствует аргументированному пересмотру последнего по времени эпистемологического поворота с его главным тезисом отказа от наукоцентризма. Для становящегося на «свой собственный пьедестал» сектора наук о психике данное обстоятельство является критически важным, поскольку основной довод в пользу такого постмодернисткого поворота – признание факта о том, что наука не является единственной системой производства и постижения значимой адаптивной информации – может быть истолковано и в том духе, что множество психотехнологий как раз и представляют собой идеальный образец упомянутого «ненаучного» способа генерации адаптивной информации. С укоренением вот этого упрощенного и в чем-то даже привлекательного эпистемологического ракурса процесс какого-либо продвижения некоторых дисциплин (например, психотерапии) к признаваемому статусу самостоятельного и состоятельного научно-практического направления окажется крайне затруднительным.
Вместе с тем глубокая проработка концепции ассоциированной эпистемологической платформы, обоснованная реконструкция – с этих новых эпистемологических позиций – ключевого в данном случае концепта герменевтики как раз и предполагает аргументированный «возврат» альтернативных способов получения информации в поле авангардной науки – например, такого крайне важного способа получения и усвоения информации, как «гнозис», с преимущественным использованием которого в продолжении тысячелетий развивалась первородная психотехническая традиция.
Следующим специфическим компонентом разработанной нами версии метода культурно-исторической реконструкции является раздел целеполагания и выведения соответствующих функциональных задач, решаемых за счет использования данного метода. Важно отметить, что полноценная идентификация и достижение выводимых здесь специфических целей, а также решение соответствующих функциональных задач возможно только лишь в условиях проработанного и в существенной своей части реализованного эпистемологического анализа. То есть специфической целью метода культурно-исторической реконструкции является надежная идентификация эпистемологических основ, сущностных характеристик предметной сферы рассматриваемого научного направления, осуществляемая в исторической ретроспективе и перспективе с использованием инструментов (методов) эпистемологического анализа. В данном определении с одной стороны подчеркивается важность общего контекста эпистемологического анализа, а с другой стороны – абсолютная ценность метода культурно-исторической реконструкции, с использованием которого только и возможно появление предметной реальности научной дисциплины с выведением адекватной для этой реальности ретроспективы и перспективы.
Что же касается выводимой отсюда специфики, номинации и последовательности функциональных задач, решаемых за счет использования метода культурно-исторической реконструкции, то все это определяется спецификой и доступной историографией исследуемого научного направления. Поэтому есть смысл представлять данные задачи на примере конкретной научно-практической дисциплины. В нашем случае, углубленный эпистемологический анализ и, соответственно, методология культурно-исторической реконструкции проводились в отношении психотерапевтической науки. Поэтому в качестве примера мы используем направление научной психотерапии, в отношении которого решались следующие функциональные задачи.
Проработка актуального культурно-исторического контекста – собственно культурного, философского, научного, – имеющего отношение к формированию эпистемологического каркаса и предметной сферы психотерапии в различные исторические эпохи;
Реконструктивная фактологическая иллюстрация эпистемологических эпох и разрывов между этими эпохами, оказавших наиболее существенное влияние на представления о механизмах достижения основных психотерапевтических эффектов. При этом понятно, что адекватное решение этих важнейших задач предполагает активное использование практически всего арсенала методологии эпистемологического анализа.
Определение основных ареалов функциональной активности и социальной миссии психотерапии в различные исторические эпохи.
Здесь стоит отметить, что несмотря на стандартный и присутствующий практически во всех более или менее глубоких исторических дискурсах рефрен в отношении того, что психотерапия изначально была представлена в магических и религиозных практиках, а затем – в медицинской и психологической сферах, дело обстоит не так просто. Во-первых, магическая и религиозная психотерапия со временем никуда не исчезли и по уровню востребованности населением в эпоху Новейшего времени эти будто бы «архаические» практики лидируют с большим отрывом. Внятный ответ на вопрос о причинах такого «удивительного» распределения предпочтений населения до настоящего времени не получен, как, собственно, не получен и адекватный «рецепт» выведения широкого фронта социальной психотерапии – в соответствии с запросом населения, – в общем формате которого все эти «большие» ареалы психотерапии могли бы конструктивно сотрудничать. И, безусловно, в рамках решения обозначенной задачи такие ответы должны быть получены.
Три следующие типичные задачи были сформулированы следующим образом.
Обоснование исторической идентичности психотерапевтической традиции, науки и практики, отграничение от «материнских» дисциплин, претендующих на роль интеллектуального донорства по отношению к психотерапии.
Идентификация эпистемологических стереотипов, препятствующих развитию самостоятельного научно-практического направления «психотерапия», а также форсированному развитию сектора наук о психике; построение и исследование вероятных моделей развития профессиональной психотерапии в ближайшей и отдаленной исторической перспективе.
Последние задачи существенно более «нагружены» в эпистемологическом смысле и развернуты в перспективный вектор развития психотерапевтической науки и практики. Однако нет никаких сомнений в том, что адекватное решение этих последних задач возможно только лишь с использованием разработанной методологии культурно-исторической реконструкции процесса становления психотерапии.
В целом же, если говорить о стержневой специфике рассматриваемого компонента целей и задач, то следует подчеркнуть направленность данного компонента на глубокую проработку важнейшей характеристики «историзма» эпистемологического анализа наук о психике и соответствующую системную организацию исследовательского процесса.
Далее необходимо хотя бы кратко остановиться на специфике «встроенных» методов исследования второго порядка, привлекаемых для достижения целей и выполнения задач метода культурно-исторической реконструкции (более подробно содержательная специфика данных методов раскрывается в других специальных подразделах). Речь здесь идет об уже знакомом нам гипотетико-дедуктивном методе, а также методах семиотико-герменевтического анализа, психотехнического и комплексного анализа (вариант С), модифицированного форсайтного исследования.
Данные методы, как понятно из всего вышесказанного, представляют собой разработанный методологический инструментарий эпистемологического анализа, что, собственно, и является наглядной иллюстрацией системной организации исследовательского процесса, проводимого с использованием рассматриваемого «большого» метода эпистемологического анализа. И надо понимать, что гипотетико-дедуктивный метод здесь используется в смысле своего «основного продукта» – проработанного кластера рабочих гипотез или важнейшей интеллектуальной базы, необходимой для обеспечения соответствующего горизонта исследования. В частности, наличие такого проработанного кластера рабочих гипотез в нашем случае абсолютно необходимо для полноценной реализации семиотико-герменевтического, а затем и психотехнического, и комплексного анализа имеющегося в нашем распоряжении фактологического материала, что в свою очередь открывает возможности для адекватной оценки перспективного вектора развития исследуемых научных направлений за счет использования модифицированной методологии форсайтного исследования. И это еще одна иллюстрация системного взаимодействия используемых здесь «встроенных» методов.
Другой заметной особенностью является обоснованная имплементация историографических, либо обозначаемых в качестве таковых методов в общий контекст эпистемологического анализа и, соответственно, в структуру вышеупомянутых «встроенных» компонентов-методов обсуждаемой здесь версии культурно-исторической реконструкции.
Так, например, в стандартном блоке методов получения научных историографических данных о предметной сфере дисциплин, так или иначе близких к психотерапевтической науке и практике, чаще всего называются следующие: текстологического анализа, библиографический, биографический; а также и более сложные аналитические методы: наукометрический – количественный и качественный, историковедческий, моделирования (упоминается обычно без уточнения, какое именно моделирование здесь имеется в виду). Все эти методы практически полностью имплементированы в методологию сбора профильной историографической информации и ее последующего семиотико-гарменевтического анализа. Что же касается более сложных методов данного блока, то они представлены в технологиях психотехнического и комплексного анализа, модифицированного форсайтного исследования и собственно реконструктивного моделирования с использованием гипотетико-дедуктивного метода.
Далее в плоскости наиболее объемного блока методов исследования истории становления предметной области ментальных дисциплин традиционно выделяют: группу личностно-идеографических методов (прослеживающих связь истории идей с личностной историей их автора); методы логико-предметного анализа (категориальный, семантический и смысловой анализ); группа методов исследования социальных аспектов предметной сферы (историко-событийный, культурологический, социологический анализ), а также метод разработки адекватной периодизации исторического процесса. Здесь вполне определенно можно говорить о включенности первых двух групп методов в общую структуру семиотико-гарменевтического анализа.
Третья группа методов так или иначе представлена в общей методологии эпистемологического анализа. Выведенная периодизация исторического процесса в нашем случае является закономерным следствием использования гипотетико-дедуктивного метода (концепты эпистемологических платформ и одноименных эпистемологических эпох).
Традиционно выделяемый организационно-стратегический блок обычно включает методы: системного и комплексного анализа, метод единства исторического и логического, сравнительно-исторической метод. Все эти методы органично входят в структуру эпистемологического анализа, в общих методологических установках которого понятие «историзма» предметной сферы является безусловным приоритетом.
В отношении специального блока интерпретации и объяснения полученных данных, выделяемого как заключительный этап профильного исторического исследования, необходимо сказать следующее. Традиционно в этот заключительный блок включают: социально-культурный, историко-генетический, сравнительно-исторический методы, а также еще и такой метод, как «эмпатическое понимание» (цит. по В. А. Кольцовой, 2008).
В этом последнем блоке как минимум следует обратить внимание на присутствие методов из других поименованных блоков, задаться вопросом о причинах такого дублирования, но также и более глубоким вопросом о критериях достаточности в методологии построения профильных исторических исследований при совершенно очевидном пересечении разрешающей способности многих из вышеприведенных и традиционно используемых методов. Полагаем, что содержательная специфика используемой нами версии культурно-исторической реконструкции эпистемологических основ рассматриваемого сектора науки как раз и содержит ответы на все эти непростые вопросы. Мы, во-первых, считаем что системная методология исследования и общий контекст эпистемологического анализа, ясно обозначенные как необходимое условие успешной реализации метода культурно-исторической реконструкции, позволяют избежать необоснованного в этом случае дробления и дублирования обозначенных здесь методов исторического исследования, тем более дублирования методов на каждом этапе такого исследования. Во-вторых, в условиях такого проработанного методологического контекста процесс реконструктивного моделирования, предлагаемый методологией семиотико-герменевтического анализа, очевидно «перекрывает» разрешающую способность многих из перечисленных методов. В частности, заключительный этап реализации данного метода, на котором полученные здесь промежуточные результаты соотносятся с объяснительной моделью (именно такая модель в нашем случае представлена кластером рабочих гипотез) и формулируются корректные выводов о состоятельности исследуемых рабочих гипотез, как раз и демонстрирует требуемый уровень достаточности. Соответственно, появляется возможность объединения разрешающей способности методов, обозначенных в специальном блоке интерпретации и объяснения полученных данных.
Следующим специфическим компонентом используемой версии метода культурно-исторической реконструкции является его общая структура. И в первую очередь здесь следует иметь в виду макроструктуру разработанной нами версии с ее главными составляющими: рамочным исследовательским контекстом и собственным алгоритмом реализации метода культурно-исторической реконструкции с выведением ретроспективного – включая анализ настоящей ситуации – и перспективного вектора реконструктивного моделирования. При таком макроструктурном оформлении последовательные технические действия по реализации рассматриваемого метода обретают законченный смысл лишь в общем контексте комплексной исследовательской программы и ее «больших» этапов. В этих условиях происходит интенсивный информационный обмен между отдельными методологическими блоками – компонентами базисного метода эпистемологического анализа, включая и важнейший блок культурно-исторической реконструкции, что, собственно, и обеспечивает необходимую интенсивность и качество информационной синергии именно на том глубинном уровне-горизонте научного исследования, на котором только и возможна сущностная идентификация эпистемологических оснований и предметной сферы наук о психике.
Алгоритм реализации разработанной версии культурно-исторической реконструкции, с учетом всего сказанного, предусматривает следующую этапность и последовательность технических действий:
– этап формирования целей и задач исследования, исходя из ключевых характеристик конкретной научной дисциплины (таких, например, как: сформированный кластер рабочих гипотез; разработанная общая и прикладная методологии исследования, имеющиеся варианты культурно-исторической реконструкции эпистемологических основ и предметной сферы исследуемого научно-практического направления);
– этап сбора и систематизации фактологического материала в соответствии с задачами исследования: предусматривает использование стандартного блока методов получения историографических данных, имеющих прямое и косвенное отношение к формированию исследуемой научной дисциплины – контент-анализа, текстологического анализа, библиографический, биографический, культурологический, историко-событийный, стратификации и проч.;
– этап ретроспективной реконструкции процесса становления эпистемологических основ и предметной сферы исследуемой науки: на данном этапе выполняются важнейшие исследовательские задачи по сущностной идентификации эпистемологических основ и предметной сферы конкретного научного направления в исторической ретроспективе, включая Новейшее время (предусматривает использование семиотико-герменевтического анализа и других «встроенных» методов эпистемологического анализа);
– аналитический этап коррекции кластера рабочих гипотез с обсуждением эпистемологических основ и предметной сферы исследуемого научного направления: на данном этапе выполняются важнейшие исследовательские задачи по исчерпывающему обоснованию идентичности и состоятельности конкретной науки (предусматривает использование «встроенных» методов эпистемологического анализа);
– этап перспективной реконструкции процесса развития исследуемого научно-практического направления: на данном этапе, с учетом имеющихся информационно-технологических возможностей, выполняется задача по разработке вероятных вариантов (моделей) развития конкретного научного направления (предусматривает использование генетико-конструктивного метода и метода модифицированного форсайтного исследования);
– этап обоснования стратегии оптимального развития исследуемого научного направления в глобальном и региональном аспектах: здесь используется научный потенциал концепта «информационной генетики», а также результаты модифицированного форсайтного исследования;
– этап соотнесения достигнутых результатов с целями исследования: здесь оценивается степень достижения заявленной цели исследования, а также вклад метода культурно-исторической реконструкции в теоретический базис исследуемого научного направления.
Главной структурной новацией и, соответственно, наиболее существенной содержательной особенностью рассматриваемого «встроенного» метода культурно-исторической реконструкции является обоснование и использование понятия «эпистемологическая платформа», и выводимого отсюда понятия «эпистемологическая эпоха». И далее обоснование фундаментальных в нашем случае понятий недифференцированной, диссоциированной и ассоциированной эпистемологических платформ и соответствующих эпох в становлении наук о психике имеет прямое отношение к сущностной реализации всего комплекса задач и достижения целей, заявляемых в рамках эпистемологического анализа. То есть рассматриваемые здесь структурные характеристики являются не столько «вспомогательным понятием» разработанной нами версии метода культурно-исторической реконструкции, сколько важнейшим компонентом «большого» метода эпистемологического анализа. И далее надо понимать, что подлинное смысловое наполнение и функциональный потенциал важнейшего концепта эпистемологических эпох и платформ как раз и раскрывается в разработанной методологи культурно-исторической реконструкции становления предметной сферы наук о психике. С учетом особой значимости «встроенного» концепта эпистемологических платформ и, главным образом, концепта ассоциированной эпистемологической платформы, более полное описание и раскрытие функциональной значимости данного генеративного концепта-инструмента эпистемологического анализа будет дано в отдельном разделе текста.
В настоящем подразделе следует рассмотреть и такую специфическую структурную характеристику рассматриваемого метода, как секторальный принцип распределения и анализа имеющегося фактологического материала. Речь здесь идет о целесообразности первичной стратификации материала по признаку собственно исторической фактологии в отношении тех научных направлений, история становления которых прослеживается с древнейших времен и первых в истории цивилизации информационных источников. Так, например, с использованием данного секторального принципа исследуется этапы процесса становления и развития помогающих психотехнологий (первородный гностический, магический, религиозный, духовных практик, медицинский, социальный, собственно научный). Такого рода дифференцированное распределение фактологического материала и акцентов в исследовательской активности предполагают и соответствующую стратификацию используемых стандартных и «встроенных» методов. В частности, исследовательская активность в первых двух выделяемых секторах предполагает использование всего методологического арсенала разработанной версии культурно-исторической реконструкции процесса формирования предметной сферы помогающих психотехнологий. В последнем секторе, акцентированном на исследовании наукоемкого содержания современных психотехнологий, предполагается преимущественное использование встроенного метода психотехнического и комплексного анализа.
Идентификация существенных отличий модифицированной версии метода культурно-исторической реконструкции от традиционных историковедческих подходов, используемых в секторе наук о психике, также представляет собой важную характеристику рассматриваемого компонента эпистемологического анализа.
Общие – для исторических исследований, в частности для исследований процессов формирования предметной сферы наук о психике – установочные позиции, о которых нам говорят авторы многочисленных историковедческих текстов и о которых стоит сказать в настоящем подразделе, следующие.
Деятельность, направленная на исследование прошлого, как и любая другая деятельность, имеет своей целью адаптацию и развитие, что, собственно, и является ключевыми характеристиками процесса, обозначаемого как индивидуальное или социальное бытие. Но если процесс бытия развернут во времени и не мыслится в отрыве от данной важнейшей категории реальности (М. Хайдеггер, 2011), и вектор развития, по определению, развернут в будущее, то исследование прошлого – в той или иной степени, явно или неявно, но практически всегда развернуто в темпоральных модусах прошлого, настоящего и будущего.
Такая многовекторная в смысле охватываемых темпоральных модусов направленность традиции исследования прошлого адекватно иллюстрируется термином «поступательное движение», относимого в том числе и к характеристикам циклических процессов цивилизационного развития. В соответствие с логикой данного термина, для того чтобы без каких-либо неоправданных рисков сделать шаг или «заступ» в направлении будущего, необходимо опереться на некое прочное основание – точку опоры или, в нашем случае, исторический опыт. И вот эта точка опоры, этот исторический опыт в какой-то степени определяет выбор будущего, и, следовательно, присутствует в этом будущем, что, по всей видимости, и имеется в виду, когда нам говорят о некой «связи времен», «исторических скрепах» и проч. Однако, в нашем случае исторический опыт исследуется исходя из мета-позиции «большого» эпистемологического анализа, позволяющего, в том числе, отделить «зерна» устойчивой и перспективной эпистемологической платформы от «плевел» трухлявых и отживших свое установочных позиций. В этом случае переосмысленный таким образом исторический опыт не в коем случае не тормозит, а только лишь стимулирует процесс цивилизационного развития.
Что же касается функциональных смыслов обращенности к историческому опыту наших представлений о психическом, и далее – периодике становления наук о психике, то такой ресурсный контекст совершенно очевиден. Человек и общество нуждаются в несущих, долговременных смыслах, которые затем транслируются в систему идиом и правил, координируют бытие и формируют направленность адаптивного поведения человека и общества. В силу чего человек осуществляет свой жизненный путь в более или менее определенном структурированном и зачастую неосознаваемом пространстве таких ресурсных смыслов. Что, в свою очередь, позволяет концентрироваться на разработке и воплощении моделей будущего, в полной мере используя креативный потенциал психического – главное достояние homo sapiens. Иными словами, отрефлексированный, исследованный и должным образом усвоенный исторический опыт позволяет продвигаться человеку и обществу по развивающей спирали адаптивно-креативного цикла без каких-либо кризисных задержек и тупиков, что, собственно, и понимается под термином «устойчивое развитие», и что представляет собой стержень наиболее масштабной, «необъявленной» социальной психотерапии.
Разрешающая способность метода культурно-исторической реконструкции.
Максимально возможная разрешающая способность настоящего метода с одной стороны обеспечивается «большими» форматами, в рамках которых данный метод реализуется: общим контекстом Базисной научно-исследовательской программы и возможностью использования научных результатов, полученных на предварительных этапах реализации такой масштабной исследовательской программы (это, безусловно, наиболее выигрышный вариант); потенциалом «большого» метода эпистемологического анализа и соответствующими возможностями его встроенных компонентов.