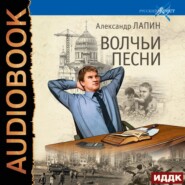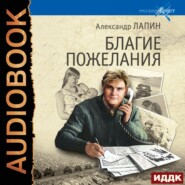По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Суперхан
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это оралманы! – пояснила Марина. – Переселенцы из Монголии и Китая. Главный хозяин пригласил их, чтобы компенсировать численность населения, потому что многие покидают страну. Вот приехали эти, полудикие. Местные казахи-то цивилизованные, чистенькие. А эти – как видишь. Они сидят на обочинах, ждут, чтобы кто-то нанял их на работу.
«Значит, Казахстан так и продолжает подпитываться мигрантами, – подумал Дубравин. – Это сколько их, красавцев, теперь!»
Словно угадав его мысли, Марина добавила:
– Почти миллион их въехал.
Машина теперь двигалась по бывшей улице Дзержинского, где когда-то в серо-стальных зданиях располагался республиканский КГБ. В годы студенческой юности тут допрашивали Дубравина и его друзей по поводу нежелательных контактов с иностранцами. Что было – то было…
Но теперь на входе в бывший КГБ висела вывеска, что здесь располагается какая-то картинная галерея.
– А на соседней улице, – пояснил Майснер, – там, где раньше были камеры внутренней тюрьмы КГБ, после девяносто первого открыли музей репрессий. Потом и музей выгнали. И там теперь тюремный блок местного Комитета национальной безопасности.
– Все вернулось на круги своя! – меланхолично произнес Александр, на которого нахлынули воспоминания юности…
– Корейский театр, – отмечает Марина, – теперь не корейский. В его здании располагается уйгурский театр.
Из окна машины было видно, что русские лица на улицах встречаются редко-редко.
«Как будто они попрятались, – думал Дубравин. – А ведь наверняка их еще много. Город-то сначала развивался как военный опорный пункт, а дальше – как культурный и административный форпост российско-советской империи. Теперь же он очень сильно стал похож на южные города Казахстана. На Чимкент, Кзыл-Орду, Джамбул… Н-да! Обветшала Алма-Ата, однако. Я бы сказал даже: обазиатилась!»
С этой мыслью он снова обратился к спутникам.
– Да, с одной стороны, потерял «Отец яблок» свой колорит. С другой – ему усиленно прописывают европейские нормы, – подтвердил Майснер. – В центре разместили прогулочную зону, такой длиннющий променад, и обсадили экзотическими деревьями, которые привезли бог знает откуда. И знаешь, по какой цене обошлось каждое дерево?
– И не предполагаю даже!
– Пять тысяч евро штука!
– Да ну! Они что, охренели совсем?
– Это все – чтобы понравиться Папе.
– Кому?
– Ну, тому, кого у нас все зовут Папой. Ему этот променад показывали и приговаривали: «Вот у нас – как в Париже!»
– Точно, как в Париже! – заметил Дубравин. – Только дома пониже и асфальт пожиже.
Ему было обидно за то, что город, который всегда имел собственное неповторимое лицо, новые хозяева теперь превращают в чью-то плохую копию…
Замелькали слева здания студенческого городка КазГУграда. И хотя теперь его отделанные розовым ракушечником здания частично закрывали расположенные вдоль проспекта небоскребы из стали, бетона и стекла, все равно студенческая альма-матер Дубравина смотрелась живописно и здорово. Когда-то, пол столетия назад, там росли огромные яблоневые сады. Но сорок лет назад их вырубили и начали строить студенческий городок. Стройка велась хозспособом, так что Дубравин и его друзья тоже приложили руку к строительству общежитий, в которых и сами обитали некоторое время.
Слева, на знакомом предгорном холме, Дубравин увидел еще одно знаковое сооружение – трамплин для прыжков на лыжах. «Боже мой! А ведь я когда-то здесь учился кататься на лыжах. Сам. По купленной в Москве брошюре. И научился. Да, славное было время!»
С этим катанием у него была связана целая история… Впрочем, здесь, в Алма-Ате, у него куда ни кинь – везде история жизни. Что-то с чем-то связано. Здесь он работал на стройке. Тут учился. Там у него жила девушка. Как говорится, каждый камешек напоминал ему о прошлом. О молодости. О друзьях. О любви.
* * *
А Александр Майснер продолжал рассказ для гостя:
– А вон, на новой площади – видишь? Памятник событиям декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Во-он он! Арка! На монументе – солдаты, овчарки…
Память послушно развернула тот день, когда горели на площади пожарные машины и хвойные деревья, раздавались крики, и толпы очень похожих молодых студентов и студенток, словно волны, сталкивались с идущими на них солдатскими и милицейскими цепями. А ему, только начавшему работать в молодежной газете корреспонденту, надо было выбирать, где он, на чьей стороне…
Он выбрал и не ошибся. Здесь теперь другая жизнь, и в этой жизни, ясное дело, ему бы места не было.
Разговор снова зашел о прошлом, о людях, которые остались. И Майснер заметил:
– Остаются такие, как мы, которые прожили здесь жизнь. Вросли в нее, в Алма-Ату. Нам уж, как говорится, здесь и доживать. А молодежь русскоязычная разъехалась. Вот у меня: одна дочка уехала в Норвегию, вышла замуж. Другая устраивается в Канаде, получила вид на жительство. Сын вот еще учится в гимназии. Надо его поднимать. Но жмем в основном на язык. Чтобы тоже мог учиться где-то на Западе или в Израиле и там остаться.
С одной стороны, опечаленный такой позицией, а с другой – обнадеженный, Дубравин молча наблюдал за мелькающими пейзажами. Кажется, они подъезжали к месту действия. Это он определил по тому, что обе стороны дороги были заставлены автомобилями всех возможных цветов и марок.
А Олег зыркал по сторонам, пытаясь найти место для парковки. Наконец, после нескольких кругов, им удалось неплохо притулиться.
VI
Банкетный зал огромен. Построен в виде гигантской стилизованной юрты, раз в сто превышающей настоящую.
Они толкнули двойные узорчатые двери и вошли в «предбанник». Взгляду Дубравина открылся холл со стенами, обитыми белым шелком, а в нем – большое пятиметровое панно из живых красных цветов.
Мимо панно они прошли в главное помещение – тоже огромное и сплошь заставленное покрытыми белыми скатертями круглыми столами. Возле столов стояли кресла с высоченными спинками и тоже в белых чехлах. Большинство кресел были уже заняты людьми всех возрастов.
С потолка свисали шикарные хрустальные, ярко горевшие люстры. Вдали, у противоположной стены, висел огромный черный экран. На экране демонстрировались цветные фотографии живого и жизнерадостного Амантая: вот он серьезный, в свадебном костюме во Дворце бракосочетания, вот он на лыжах в Австрийских Альпах. Теперь с президентом… Люди, сидевшие за столами, ели, говорили. Многие ходили по залу в поисках знакомых.
К ним подошел моложавый казах, в котором Дубравин узнал сына Амантая. Майснер о чем-то поговорил с ним, но Дубравин не прислушивался. Распорядитель в черном костюме предложил им занять место за большим круглым столом в центре зала.
Под траурную музыку на экране продолжал крутиться фильм о жизни казахского реформатора. А он, Шурка Дубравин, в возрасте здорово за шестьдесят, никак не мог поверить в то, что это об Амантае, которого больше нет. И ему начинало казаться, что он присутствует на каком-то грандиозном спектакле. А еще точнее – при каком-то розыгрыше.
Зал заполнялся все больше и больше. Распорядитель, который встретил их на входе, и его помощники из числа родственников и друзей рассаживали прибывающий народ. Вот к их полупустому столу он подвел двух малельких, как показалось Дубравину, немало поживших женщин. Одеты обе были строго, в черные одежды. Он вгляделся в их лица, увидел что-то знакомое, но давно забытое, и наконец понял, что это его однокурсницы – Магрифа Ганузакова и Каражан Султанова. Сорок лет как они не виделись! Магрифа была тогда пухлая, беленькая, симпатичная девушка. Каражан – кровь с молоком – юная, краснощекая, полная жизни и энергии. Сейчас, по ощущению Дубравина, они как бы сжались, уменьшились в объемах.
Они уселись за стол, посмотрели на Майснера, на Марину. На него. И… не узнали. Да, не узнали – так он изменился за эти годы.
Дубравин встал из-за другого края стола, подошел к ним, остановится возле Магрифы и спросил:
– Магрифа! Ты меня не узнаешь?! Вы меня не узнаете? Обе с изумлением вытаращили (другого слова и не подберешь) на него глаза. Каражан даже надела круглые очки. Магрифа наконец начала понимать и с чувством некоторого изумления, с одной стороны, а с другой – сомнения спросила:
– Саша, это ты?
– Я! Неужели так изменился?
– Ойбай! Ты стал такой огромный! – пролепетала Султанова, вставая со стула.
Они поочередно обнялись, прикладываясь к щечке, и Дубравин почувствовал тонкий запах парфюма. Все снова расселись рядом, и разговор, бестолковый, как весенний ручей, начался заново.
Охи-вздохи-всхлипы. Короткие воспоминания. А помнишь? А что же ты?..
Магрифа произнесла:
«Значит, Казахстан так и продолжает подпитываться мигрантами, – подумал Дубравин. – Это сколько их, красавцев, теперь!»
Словно угадав его мысли, Марина добавила:
– Почти миллион их въехал.
Машина теперь двигалась по бывшей улице Дзержинского, где когда-то в серо-стальных зданиях располагался республиканский КГБ. В годы студенческой юности тут допрашивали Дубравина и его друзей по поводу нежелательных контактов с иностранцами. Что было – то было…
Но теперь на входе в бывший КГБ висела вывеска, что здесь располагается какая-то картинная галерея.
– А на соседней улице, – пояснил Майснер, – там, где раньше были камеры внутренней тюрьмы КГБ, после девяносто первого открыли музей репрессий. Потом и музей выгнали. И там теперь тюремный блок местного Комитета национальной безопасности.
– Все вернулось на круги своя! – меланхолично произнес Александр, на которого нахлынули воспоминания юности…
– Корейский театр, – отмечает Марина, – теперь не корейский. В его здании располагается уйгурский театр.
Из окна машины было видно, что русские лица на улицах встречаются редко-редко.
«Как будто они попрятались, – думал Дубравин. – А ведь наверняка их еще много. Город-то сначала развивался как военный опорный пункт, а дальше – как культурный и административный форпост российско-советской империи. Теперь же он очень сильно стал похож на южные города Казахстана. На Чимкент, Кзыл-Орду, Джамбул… Н-да! Обветшала Алма-Ата, однако. Я бы сказал даже: обазиатилась!»
С этой мыслью он снова обратился к спутникам.
– Да, с одной стороны, потерял «Отец яблок» свой колорит. С другой – ему усиленно прописывают европейские нормы, – подтвердил Майснер. – В центре разместили прогулочную зону, такой длиннющий променад, и обсадили экзотическими деревьями, которые привезли бог знает откуда. И знаешь, по какой цене обошлось каждое дерево?
– И не предполагаю даже!
– Пять тысяч евро штука!
– Да ну! Они что, охренели совсем?
– Это все – чтобы понравиться Папе.
– Кому?
– Ну, тому, кого у нас все зовут Папой. Ему этот променад показывали и приговаривали: «Вот у нас – как в Париже!»
– Точно, как в Париже! – заметил Дубравин. – Только дома пониже и асфальт пожиже.
Ему было обидно за то, что город, который всегда имел собственное неповторимое лицо, новые хозяева теперь превращают в чью-то плохую копию…
Замелькали слева здания студенческого городка КазГУграда. И хотя теперь его отделанные розовым ракушечником здания частично закрывали расположенные вдоль проспекта небоскребы из стали, бетона и стекла, все равно студенческая альма-матер Дубравина смотрелась живописно и здорово. Когда-то, пол столетия назад, там росли огромные яблоневые сады. Но сорок лет назад их вырубили и начали строить студенческий городок. Стройка велась хозспособом, так что Дубравин и его друзья тоже приложили руку к строительству общежитий, в которых и сами обитали некоторое время.
Слева, на знакомом предгорном холме, Дубравин увидел еще одно знаковое сооружение – трамплин для прыжков на лыжах. «Боже мой! А ведь я когда-то здесь учился кататься на лыжах. Сам. По купленной в Москве брошюре. И научился. Да, славное было время!»
С этим катанием у него была связана целая история… Впрочем, здесь, в Алма-Ате, у него куда ни кинь – везде история жизни. Что-то с чем-то связано. Здесь он работал на стройке. Тут учился. Там у него жила девушка. Как говорится, каждый камешек напоминал ему о прошлом. О молодости. О друзьях. О любви.
* * *
А Александр Майснер продолжал рассказ для гостя:
– А вон, на новой площади – видишь? Памятник событиям декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Во-он он! Арка! На монументе – солдаты, овчарки…
Память послушно развернула тот день, когда горели на площади пожарные машины и хвойные деревья, раздавались крики, и толпы очень похожих молодых студентов и студенток, словно волны, сталкивались с идущими на них солдатскими и милицейскими цепями. А ему, только начавшему работать в молодежной газете корреспонденту, надо было выбирать, где он, на чьей стороне…
Он выбрал и не ошибся. Здесь теперь другая жизнь, и в этой жизни, ясное дело, ему бы места не было.
Разговор снова зашел о прошлом, о людях, которые остались. И Майснер заметил:
– Остаются такие, как мы, которые прожили здесь жизнь. Вросли в нее, в Алма-Ату. Нам уж, как говорится, здесь и доживать. А молодежь русскоязычная разъехалась. Вот у меня: одна дочка уехала в Норвегию, вышла замуж. Другая устраивается в Канаде, получила вид на жительство. Сын вот еще учится в гимназии. Надо его поднимать. Но жмем в основном на язык. Чтобы тоже мог учиться где-то на Западе или в Израиле и там остаться.
С одной стороны, опечаленный такой позицией, а с другой – обнадеженный, Дубравин молча наблюдал за мелькающими пейзажами. Кажется, они подъезжали к месту действия. Это он определил по тому, что обе стороны дороги были заставлены автомобилями всех возможных цветов и марок.
А Олег зыркал по сторонам, пытаясь найти место для парковки. Наконец, после нескольких кругов, им удалось неплохо притулиться.
VI
Банкетный зал огромен. Построен в виде гигантской стилизованной юрты, раз в сто превышающей настоящую.
Они толкнули двойные узорчатые двери и вошли в «предбанник». Взгляду Дубравина открылся холл со стенами, обитыми белым шелком, а в нем – большое пятиметровое панно из живых красных цветов.
Мимо панно они прошли в главное помещение – тоже огромное и сплошь заставленное покрытыми белыми скатертями круглыми столами. Возле столов стояли кресла с высоченными спинками и тоже в белых чехлах. Большинство кресел были уже заняты людьми всех возрастов.
С потолка свисали шикарные хрустальные, ярко горевшие люстры. Вдали, у противоположной стены, висел огромный черный экран. На экране демонстрировались цветные фотографии живого и жизнерадостного Амантая: вот он серьезный, в свадебном костюме во Дворце бракосочетания, вот он на лыжах в Австрийских Альпах. Теперь с президентом… Люди, сидевшие за столами, ели, говорили. Многие ходили по залу в поисках знакомых.
К ним подошел моложавый казах, в котором Дубравин узнал сына Амантая. Майснер о чем-то поговорил с ним, но Дубравин не прислушивался. Распорядитель в черном костюме предложил им занять место за большим круглым столом в центре зала.
Под траурную музыку на экране продолжал крутиться фильм о жизни казахского реформатора. А он, Шурка Дубравин, в возрасте здорово за шестьдесят, никак не мог поверить в то, что это об Амантае, которого больше нет. И ему начинало казаться, что он присутствует на каком-то грандиозном спектакле. А еще точнее – при каком-то розыгрыше.
Зал заполнялся все больше и больше. Распорядитель, который встретил их на входе, и его помощники из числа родственников и друзей рассаживали прибывающий народ. Вот к их полупустому столу он подвел двух малельких, как показалось Дубравину, немало поживших женщин. Одеты обе были строго, в черные одежды. Он вгляделся в их лица, увидел что-то знакомое, но давно забытое, и наконец понял, что это его однокурсницы – Магрифа Ганузакова и Каражан Султанова. Сорок лет как они не виделись! Магрифа была тогда пухлая, беленькая, симпатичная девушка. Каражан – кровь с молоком – юная, краснощекая, полная жизни и энергии. Сейчас, по ощущению Дубравина, они как бы сжались, уменьшились в объемах.
Они уселись за стол, посмотрели на Майснера, на Марину. На него. И… не узнали. Да, не узнали – так он изменился за эти годы.
Дубравин встал из-за другого края стола, подошел к ним, остановится возле Магрифы и спросил:
– Магрифа! Ты меня не узнаешь?! Вы меня не узнаете? Обе с изумлением вытаращили (другого слова и не подберешь) на него глаза. Каражан даже надела круглые очки. Магрифа наконец начала понимать и с чувством некоторого изумления, с одной стороны, а с другой – сомнения спросила:
– Саша, это ты?
– Я! Неужели так изменился?
– Ойбай! Ты стал такой огромный! – пролепетала Султанова, вставая со стула.
Они поочередно обнялись, прикладываясь к щечке, и Дубравин почувствовал тонкий запах парфюма. Все снова расселись рядом, и разговор, бестолковый, как весенний ручей, начался заново.
Охи-вздохи-всхлипы. Короткие воспоминания. А помнишь? А что же ты?..
Магрифа произнесла: