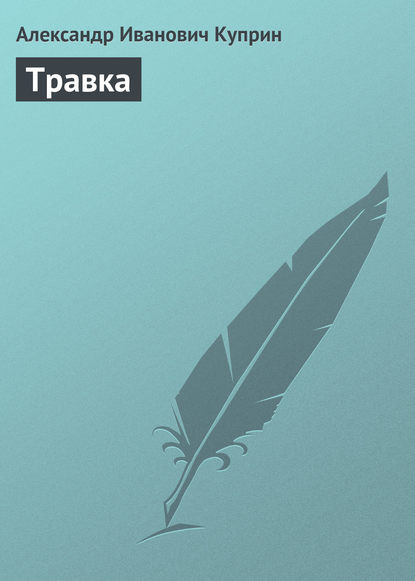По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Травка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Кресс-салат»? – повторяет он уныло, как деревянный попугай.
– Да, «Кресс-салат»! – кричу я, уже охваченный творчеством, тем вдохновением, о котором так много говорят провинциальные читатели. – Представь себе безногого бедняка, который вдруг снял потный валенок, унавозил его, посыпал землицей и бросил зерна… И вот к пасхе у него всходит прекрасная зеленая травка, которую он может срезать и, приготовив под соусом, скушать после пасхальной заутрени! Разве это не трогательно?
– Ты смеешься надо мною! Это подло! Как я явлюсь к издателю без твоего рассказа?
– Ну, хорошо… давай дальше! Собаки лечатся травками…
– Извини, пожалуйста, это уже относится к области ветеринарии!
– Представь себе вкусную душистую травку, которую едят на Кавказе в духанах. Отсюда легко перейти к Зелим-хану! Понимаешь? Ест он барашка с травкой… вспоминает свой мирный аул, слезы текут по его щекам, изборожденным старыми боевыми ранами… И вдруг он говорит пленному полицейскому офицеру, отпуская его на волю: «Иды… кушай травкам… будет тебе пасхам!» Чего ты еще хочешь, черт тебя*побрал бы?! Ну, вот: «Олень копытом разбивает лед, пока не найдет прошлогодней травы… бедные олешки!» Ну, как я выпутаюсь, черт побери, из этого Нарымского края! Нужно будет ввести политического ссыльного, но ведь цензура…
– Цензура!.. – промолвил редактор печально. Потом он немножко помолчал, вздохнул, взял шляпу и стал уходить.
Но вдруг он остановился и обернулся ко мне.
– Заважничал… модернист!.. – бурчал он, открывая дверь. – По-моему, это с твоей стороны свинство! Ты несомненно издеваешься над искусством. Травка… травка… травка… травка!.. А по-моему, надо подходить к вопросу проще…
Я догнал его уже в передней, когда он, рассерженный, всовывал свои ноги в калоши и надевал шляпу.
– Надо писать серьезно… – говорил он. – Конечно, я не обладаю даром, как ты, и наитием… Но если бы я писал, я написал бы просто. Помнишь, как мы с тобой, – тебе было одиннадцать лет, а мне десять, – как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырушки на огороде детской больницы?
– Конечно, помню! Дикое растение!
– А помнишь молочай?
– Ах, ну, конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.
– А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?
– Дикая редька?
– Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!
– А помнишь: желтые цветы акации, которыми мы набивали полные с верхом фуражки и ели, как лошади овес из торбы?
– А конский щавель?
Мы оба замолчали.
И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным учебным заведением нежность… пансион… фребелевская система… придирки классных наставников… взаимное шпионство… поруганное И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным учебным заведением нежность… пансион… фребелевская система… придирки классных наставников… взаимное шпионство… поруганное детство…
– А помнишь, – сказал он и вдруг заплакал, – а помнишь зеленый, рыхлый забор? Если по нему провести ногтями, следы остаются… Возле него растут лопухи и глухая крапива… Там всегда тень и сырость. II по лопухам ползают какие-то необыкновенно золотые, или, вернее сказать, бронзовые жуки. И красные с черными пятнами коровки, которые сплелись целыми гирляндами.
– А помнишь еще: вдруг скользнет луч, заиграет роса на листьях?.. Как густо пахнет зеленью! Не отойдешь от этого московского забора! Точно брильянты, горят капли росы… Длинный, тонкий, белый червяк, выворачивая землю, выползает наружу… Конечно, он прекрасен, потому что мы насаживали его на согнутую булавку и бросали в уличную лужу, веря, что поймаем рыбу! Ну, скажи: разве можно это написать? Тогда мы глядели ясными, простыми глазами, и мир доверчиво открывался для нас: звери, птицы, цветы… И если мы что-нибудь любим и чувствуем, то это только жалкое отражение детских впечатлений.
– Так, стало быть, рассказа не будет? – спросил редактор.
– Нет, я постараюсь что-нибудь слепить. А впрочем… Ну разве все то, о чем мы говорили, – не рассказ? Такой в конце концов наивный, простой и ласковый?..
Редактор обнял меня и поцеловал.
– Какой ты… – сказал он, но не докончил, глаза его увлажнились, и он, быстро повернувшись, ушел, сопровождаемый веселым лаем Сарашки и Бернара, моих милых друзей – сенбернарских песиков, – которым теперь обоим по пяти месяцев…