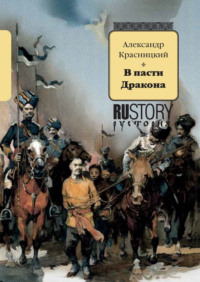Гроза Византии
– Да, он… Уж он сумеет… Зигфрид также скучает… Охоты да пиры притупили его вдохновение. Как он может воспевать героев, когда они по годам ничего не делают?..
– Так, так!.. Инголет, ты слышал?
– Слышал, – подошел к ним третий дружинник, – на Византию?
– На Византию, на Византию… –раздались со всех сторон голоса.
Все сразу воодушевились. Разговоры стали шумными. Лица загорелись, глаза заискрились.
Византийские гости, сбившиеся в одну кучку, тревожно переглянулись.
– Это что же? – шепнул Валлосу Алциад.
– Что? Покричат да и перестанут, – пожал тот плечами.
– А если нет?
– Без князей они не пойдут, а те вряд ли решатся напасть на нашего величественного порфирогенета.
– Кто их знает!.. Вдруг придет в голову что-нибудь такое этим грубым людям…
– Говорю, что без Аскольда или Дира они не осмелятся тронуться, а в случае, если и эти с ума сойдут, то, ведь, мы здесь недаром…
Громкие крики прервали этот разговор. Из внутренних покоев палат показалось торжественное княжеское шествие.
Впереди шли, по скандинавскому, пажи, расстилавшие перед князьями богатый ковер, за ними уже, окруженные самыми близкими людьми, следовали сами князья Аскольд и Дир, красавцы собой, мужественные, с смелыми открытыми лицами и ясным соколиным взглядом.
Почти что рядом с ними шел высокий человек совсем не скандинавского типа.
Все варяги, пришедшие с князьями на Днепр, были без бород, с длинными, спускавшимися на грудь усами и пучком волос, закрученным на затылке. Этот же человек, напротив того, имел черную окладистую бороду и длинные, падавшие на плечи волосы.
Это был славянин Всеслав – любимец Аскольда и Дира.
VI. Скальд
Князья заняли, после поясного поклона присутствующим, главное «высокое» место за столом. Рядом с ними, с одной стороны, уселись Всеслав, Любомир, Премысл – старейшины киевские, с другой – Руар, Инголет, Ингвар – начальники норманнов.
Аскольд, как старший, жестом руки присутствующим начать пир.
«Заходили чарочки по столикам». Сперва все молчали, уписывая вкусные яства и поливая их крепким медом. Первый голод скоро был утолен. Руар, Инголет, Ингвар, отставив от себя блюда, переглянулись между собой; потом все трое взглянули на князей.
И Аскольд, и Дир сидели понурившись. Видно, их не влек к себе шум пиршество, тень смертной тоски легки на их лица. Они даже не говорили друг с другом и угрюмо молчали.
– Конунги, скучно вам! – вдруг громко воскликнул Руар, – а вместе с вами и нам… Далеко мы от нашей родины, так хотя в память ее не будем изменять ее обычаям…
– Разве вы не довольны пиром? – спросил Аскольд, поднимая голову и вглядываясь на Руара.
– Нет, на столах всего в изобилии, а разве забыл ты, что для норманна пир не в пир, если он не слышит вдохновенной песни своего скальда про дела былые.
– Верно, прав Руар, – раздались голоса, – пусть поет скальд, пусть, и тоски тогда не останется и следа!
– Да, пусть нам споет Зигфрид, прошу тебя, Аскольд, – заговорил и Дир. – В самом деле, это хотя немного напомнит нам покинутую нами родину…
Аскольд в ответ на эти просьбы утвердительно кивнул головой.
Возгласы удовольствия послышались со всех сторон. Аскольд, особенно в последнее время, не очень охотно слушал скальда Зигфрида и всегда отдавал перед ним преимущество славянскому певцу. Теперь же он скоро согласился на просьбы своей дружины, Руар с Ингелотом приняли это за предзнаменование успеха в задуманном ими важном деле.
По знаку обрадованного Дира, немедленно в гридницу к пирующим введен был седой Зигфрид, славный скандинавский скальд, не раз своей вдохновенной песнью возбуждавший скандинавов к берсеркерангу [35].
Он вошел, высоко подняв голову. Его выцветшие от лет глаза на этот раз светились огоньком вдохновения. Таким Зигфрида давно уже не видали. Все при его появлении затихли, как бы в ожидании чего-то…
– Привет вам, витязи, привет вам, мужи Днепра и Скандинавии! – произнес Зигфрид, останавливаясь посреди гридницы, прямо против князей. – Чего желаете вы от старого певца?..
– Спой нам, Зигфрид, – сказал ему Дир.
Скальд тихо рассмеялся.
– Спеть, а о чем? –заговорил он, – где я почерпну вдохновения для моей песни? Разве слышу я звон мечей, шум битв? Разве вижу я теперь, что героев ждет светлая Валгалла?.. Нет, нет, нет! Вместо них – трусливые бабы, да и то не норманские, а таких – каких наши берсеркеры видали разве только в Исландии…
– Молчи, старик! – гневно воскликнул Аскольд, – тебя позвали петь, и пой!..
– Ты прав, конунг или князь – не знаю, как теперь и называть тебя, – усмехаясь отвечал Зигфрид, – хорошо, я спою тебе… Слушайте вы, витязи норманские!
Он с минуту помолчал и потом запел. Тихо сперва, но затем его старческий голос начал крепчать и, наконец, стал таким же звонким, как и голос юноши…
О родных скалах далекой Скандинавии пел он, вспомнил фиорды, откуда по всем морям, известным и неизвестным, расходились за добычей легкие драхи смелых викингов. Пел он о славе берсеркеров, о их безумно-отважных походах на бриттов, саксов, франков, вспомнил об Олофе Тригвосоне, мудром и о дерзко-смелом Гастингсе, пред которым трепетала Сицилия, потом перешел к чертогу Одина – светлой Валгалле, к тем неземным наслаждениям, которые ждут там души павших в бою воинов, и вдруг, в упор глядя то на бледневшего, то красневшего Аскольда, запел с особенной силой и выражением:
Презрен, кто для сладкой лени Забыл звон копий и мечей! Валгаллы светлой, дивной сени Не жаждет взор его очей. Когда ж умрет, чертог Одина Пред ним хоть будет на лицо, Не выйдут боги встретить сына С веселой песней на крыльцо! А на земле клеймо презренья На память жалкого падет,
И полный всяк пренебреженья Его лишь трусом назовет… О, боги светлые! К чему же Ему не прялку дали – меч? Что толку в трусе подлом – муже, Забывшем шум и славу сеч…
– О, замолчи, молю тебя, замолчи, Зигфрид! – прервал скальда, вскакивая с своего места, Аскольд, – ты разрываешь мою душу на части…
Он смолк, а вместе с ним смолкла и вся гридница. Все, затаив дыхание, ждали, что произойдет теперь.
–Почему я должен молчать, витязь? – гордо спросил его Зигфрид, – и с каких это пор норманны прерывают песнь своего скальда, заставляют его умолкнуть, когда светлый Бальдур вдохновил его?
– Я знаю, что ты хочешь сказать… ведь, мне все понятно! – лепетал растерявшийся ярл. – Все, все, все здесь против меня, вы не хотите покойной жизни, вы стремитесь к ненужному грабежу…
– Подожди, конунг, – загремел теперь Руар, – как ты пред лицом своих дружинников можешь говорить о грабеже? Нет об этом и помину. Не к наживе мы стремимся, а к светлой Валгалле, к тому, чтобы в потомстве не были покрыты позором наши имена… Об этом и пел Зигфрид, наш скальд. Да разве затем мы подняли вас обоих на щит, избрали своими вождями, чтобы мечи наши ржавели, секиры притуплялись, а щиты покрывала плесень? Нет, нам таких конунгов не нужно…
– Но что же вы хотите от нас? – воскликнул Дир, видя, что его друг не в состоянии от гнева и стыда выговорить даже слово. – Чего?
– Чтобы вы вели нас!
– Куда?
– На Византию…
– На Византию, на Византию, все пойдем! – загремели по всей гридницы голоса. – Вы должны вести нас! Иначе мы прогоним вас!..
Энтузиазм и жажда новых волнений охватили в этот миг всех – и норманнов, и славян. Они, пожалуй, и сами не отдавали себе отчета, зачем им нужен этот набег на Византию. И здесь, в Киеве, у них всего было с избытком. Просто молодцам захотелось прогуляться, потешить себя на просторе, а что из этого могло выйти, об этом они и не думали вовсе…
– Слышишь? – шепнул Ульпиан Валлосу.
– Да, но мы не допустим этого, – ответил тот.
– Это будет трудно.
– Но не исполнимо… Как бы ни храбрились, а без Аскольда и Дира ни в какой поход они не пойдут. Но послушаем, что скажет князь…
Аскольд и Дир сделали знак, из которого можно было понять, что они желают говорить.
– Знаем мы ваши желания, друзья, – несколько дрожащим от волнения голосом начал Аскольд, – и готовы исполнить вашу просьбу.
Клики восторга огласили гридницу.
– Только дайте нам обдумать все, – продолжал князь, – и тогда, клянусь и Одином, и Перуном, мы исполним вашу просьбу… а теперь прощайте… Не на радость для нас устроился этот пир.
Сделав поклон дружине, ярлы поспешили уйти из гридницы.
VII. Всеслав
Тотчас же по уходе Аскольда и Дира гридница быстро начала пустеть.
Первыми поспешили уйти византийские «гости». Все, что они здесь слышали, было для них так неожиданно и ужасно, так поразило их, что они оробели и за себя, и за свою родину.
За ними удалились часть норманской дружины и киевляне.
В гриднице остались только Руар, Ингелот, Ингвар, Зигфрид и славянин Всеслав.
Все они в княжьих покоях были своими людьми, а потому и не особенно спешили уходить.
– Честь тебе великая, скальд, если ты разбудил уснувшие сердца наших ярлов, – говорил Руар, пожимая руки Зигфиру.
– Мною руководил светлый Бальдур – ему честь и хвала! – с улыбкой отвечал тот.
– Но все-таки твоими устами говорил Бальдур…
– Долг скальда было сделать, что сделано мною. Но не будем говорить об этом!.. Итак, ваше желание исполнено, витязи?..
– И мое также! – вдруг вмешался Всеслав.
– И твое, славянин? – с удивлением воскликнул Зигфрид.
– И мое!
– Но это непохоже на ваши кроткие нравы…
– Может быть, но не забывайте, что я – славянин только по рождению… Лучшие годы моей жизни я провел между вами в вашей стране, там я оставил все славянское и вернулся на родину истым варягом.
– Это мы знаем, ты всегда был храбрецом даже между нами…
– Благодарю. Византию же я ненавижу, ненавижу всеми силами своей души и, если только боги будут ко мне милостивы, в крови ее детей я утолю свою ненависть… О, скорей бы поход! Как потешился бы я тогда!
– Ты – Всеслав? Ты ненавидишь Византию? За что? – раздался позади их грустный голос.
Все разговаривавшие быстро обернулись на него.
Позади их стоял незаметно вошедший Дир.
– Скажи же, Всеслав, за что ты ненавидишь Византию? – повторил он свой вопрос.
– За что? Ты хочешь знать, князь? Так, вот, за что: она отняла у меня отца, мать, жену, дочь, сестру…
– Как так? Когда? – поспешил спросить любопытный Инголот.
В ответ на это Всеслав рассказал грустную историю своей жизни. Со слезами на глазах поведал он про отца своего Улеба, про мать, рассказал о том, как их разлучили и увезли в Византию…
– Кто знает! – закончил он, – может быть, они еще живы, а если живы, то там более я жажду пойти в Византию и отыскать их…
– Но Византия велика…
– Все равно, я найду их, хотя бы мне пришлось пройти ее с края до края… О, князь, – вдруг переменил Всеслав тон голоса, – умоляю тебя, уговори Аскольда повести нас… Клянусь Перуном, я соберу видимо-невидимо славян, и они все пойдут за вами…
Дир молчал. Он не знал, что отвечать своему любимцу.
– Что же ты молчишь, князь? – возвысил тот голос, или тебя не трогают горе и печаль твоих соратников?
– Оставь, Всеслав, – промолвил Дир, – ведь, ты знаешь, мы оба любим тебя.
– Что мне в вашей любви! Помните, я – сын славного до сих пор среди приднепровских родов старейшины Улеба; я сам пойду на Византию, если вы будете сидеть сложа руки… Ведь, не для этого не только что норманны, но и мы – славяне, избрали вас своими князьями… Эх, если бы был между нами Рюрик!..
Дир нахмурился.
– Тогда что же было бы? – промолвил он.
– Быстрым соколом полетел бы он по берегу, кликнул бы клич, и поняли бы все, что не баба заспанная, а князь – у них!..
– Молчи, несчастный! – крикнул ярл, хватаясь за меч.
– Зачем молчать? Я говорю, что следует! А ты напрасно за меч хватаешься… Прялки он у тебя в руках не стоит.
– Где твой сын? – переменил тон Дир.
– Сын? Уж не заложником ли ты хочешь его взять? Так мой сын парит теперь, что орел по поднебесью… А где он, спроси у него…
– Слушайте, раздался могучий голос Аскольда. – Вы все здесь говорите о походе на Византию, но что нам принесет этот поход?
– Потешимся!
– Только? А сколько из нас не вернется… ведь, не шутки с нами будут шутить!
– Валгалла ждет храбрых.
– Это так, но что мы выиграем, зачем нам Византия?
– Олег бы не так рассуждал, – послышался густой голос Руара.
– То Олег. Нам доверился весь этот край, мы должны оберегать его, а не гнаться за неизвестным.
– Но ты – конунг наш…
– Хорошо, что же из этого?
– Ты должен вести нас к славе…
– Вы хотите Византии?
– Да!
– Будь по-вашему…
Едва он вымолвил эти слова, как все кинулись целовать его, и стены княжеских покоев до утра тряслись от громких криков:
– На Византию, на Византию!
VIII. Божья кара.
Неудавшееся ристалище долго еще вызывало волнение в Константинополе. Михаил должен был раздать из своих хранилищ большие запасы масла и хлеба, чтобы хотя несколько успокоить волновавшуюся чернь. Голубые упрямились, они требовали, чтобы император исполнил свое обещание и возвратить им их вождя Анастаса, но как он мог это сделать, когда и Анастас, и Зоя скрылись неизвестно куда. Только Василий Македонянин, которого и голубые знали за искреннего друга Анастаса, да быстрая казнь Никифора успокоили их, и они дали обещание выступить на первом же ристалище под предводительством нового вождя.
Изок и Ирина жили у Василия, который приобретал все более и более влияние на порфирогенета, так как болезнь по прежнему приковывала дядю императора Варласа к ложу. Македонянин умело пользовался своим влиянием. Нередко видели его на форуме среди народной толпы. Он прислушивался к ее говору, старался узнать ее нужды разумными распоряжениями, как раз соответствовавшими его желаниям.
Так шло время. Об Анастасе и Зое почти все уже забыли в Константинополе.
В один вечер, когда спал зной дня, Василий в платье простого византийца отправился на форум, желая узнать, чем занята чернь Константинополя.
Когда он пришел туда, то около колонны Константина сразу усмотрел толпу народа. Василий протискался через нее в первые ряды и увидел сидевшего у подножия колонны старика, с жаром рассказывавшего что-то своим слушателям.
Старик этот, по имени Сила, был ходячею летописью Византии. Он был так стар, что даже позабыл год своего рождения, но прекрасно помнил все, что касалось родного его города.
– Велик и славен город Константинополь, – говорил он, когда Македонянин пробрался к нему, – сам Господь, Единый Вершитель судеб, хранит его…
Старик вдруг замолчал.
Внимание слушателей напряженно было до последней степени.Все старались стать повыше, приподнимали головы и пристально смотрели на рассказчика.
А тот сидел, понурив голову, углубленный в себя, в свои мысли…
Вдруг он весь выпрямился и, как бы проснувшись от тяжелого сна, огляделся своими мутными, потерявшими всякий блеск, глазами вокруг и заговорил.
Голос его сперва был глух и подавлен.
Его слова едва можно было разобрать, но, чем дальше шла речь, тем более и более крепчал этот старческий голос, ободряюще действуя на собравшихся.
– Да, сам Господь хранит Новый Рим, – говорил рассказчик, – вот, слушайте, что расскажу я вам о временах от вас отдаленных, но, вместе с тем, и близких… Язычество, иконоборство сильно еще было в народе. Великий Константин умер, его слабые сыновья не смели поддержать его святое дело, а отступник Иулиан встал на защиту язычества, но Галилеянин победил его, и Иулиан пал на поле битвы, признав Его… Крест восторжествовал, и народ стал считать себя под его защитою… Но нравы народа развратились, и при восторжествовавшей вере во Христа Новый Рим стал по духу равен старому Риму, и, вот, Всемогущий Господь, чтобы возвратить заблудший народ на путь спасения, послал ему кару…
Страшную, ужасную кару…
Развилась в Византии болезнь, неведомая ужасная болезнь, истребившая почти весь род человеческий. Стало в Византии твориться нечто ужасное… Народ умирал и в каждом доме был покойник. Неокрепшие в вере Христовой умы приписывали происхождение этой болезни некоторой тайной причине, исходящей из неба… Болезнь эта страшная не ограничивалась ни местом, ни каким-либо одним народом, ни временем года; она пронеслась по всему миру, жестоко поражая самые различные народности, не разбирая ни пола, ни возраста. Ничего не останавливало ее. Одних она поражала летом, других – зимою или в другие времена года.
Она началась в Египте, в Пелузе, откуда направилась по двум дорогам – с одной стороны, к Александрии и остальному Египту, с другой – в Палестину. После этого она охватила всю землю, подвигаясь все время через правильные промежутки времени и места. Казалось, точно кто управляет ею… Она останавливалась, где уже она как-будто решила остановиться на определенное число дней, щадя промежуточные местности и распространяясь по всем направлениям до самых границ мира, точно боясь не пропустить на своем пути каких-либо отдаленнейших уголков земли. Не было того острова, той долины, той горной вершины, которых бы она не посетила, раз там были люди. Если через какое-либо место она проходила, не тронув его, то через некоторое время она к нему возвращалась, щадя уже на этот раз те соседние поселения, которые раньше были ею опустошены; и уже отсюда она не уходила до тех пор, пока не получала своей дани – жертв, соответственно тому, что ею было получено в других соседних местностях. Она всегда начинала свою деятельность от морских берегов и оттуда двигалась вглубь материка.
Весною второго года [36] она появилась в Византии.
Сила передохнул и потом продолжал свой рассказ.
– Вот как она здесь появилась: многие стали видеть духов, принявших человеческий вид; при этом таким больным казалось, что эти духи, около них стоящие, наносили им удары. Такие видения и были признаками начавшейся болезни. Мучимые видениями несчастные призывали всех святых и прибегали ко всякого рода очистительным жертвам. Но ничто не помогало, ибо большинство отдавало Богу душу в самых храмах, куда приходили для молитв. Не мало было и таких, которые запирались в своих комнатах, не отвечали на зов друзей, и, несмотря на все угрозы, которые пускались в ход, несчастные притворялись ничего не слышащими, боясь, что с ними говорят приведения…
Некоторым мерещились видения только во сне, они слышали голоса, произносившие их имена в числе имен, присужденных к смерти. Большинство же, впрочем, ни во время сна, ни при бодрствовании не получали этих прискорбных предзнаменований. Лихорадка их захватывала внезапно: одних – в тот момент, когда они просыпались, других – во время прогулки, многих – среди обычных занятий. Тело их изменялось в цвете, но никакого признака воспаления нельзя было заметить. С утра и до вечера лихорадка была так легка, что предчувствовать какую-либо опасность не мог ни сам больной, ни врач, навещавший его. Никто из заболевших не казался находящимся в смертельной опасности. Но уже с первых же дней у одних – на другой же день, у других – через несколько дней можно было заметить появление нарывов не только в нижней части тела, но и подмышками, а иногда даже за ушами, и припадки этой страшной ниспосланной небесами болезни выражались почти одинаково у всех больных.
Одни из заболевших были погружены в глубокое беспамятство, другие в припадках бурного гнева были ужасны.
Первые имели вид людей, потерявших всякое понимание окружающего. Если около них был кто-либо и мог о них заботиться, то они принимали время от времени пищу. Если их покидали, они умирали от истощения. Вторые, охваченные бредом, лишившись сна, преследуемые все время различными видениями, везде видели перед собою каких-либо людей, покушающихся на их жизнь, и старались бежать, издавая страшные крики.Ухаживавшие за такими больными были в самом тяжком положении и вызывали не меньшую жалость, нежели сами больные. И не потому, что они подвергались опасности вследствие такой близости к больным, так как ни врачи, ни кто-либо другой не заболевали от прикосновения. Даже те, которые обмывали и одевали покойников, оставались, помимо всякого ожидания, здоровыми и невредимыми во время исполнения своих ужасных обязанностей.
Многие из них, пораженные болезнью в другое время и при том без видимой причины, быстро умирали. Поэтому прислугу заболевших жалели только в силу невероятных трудов, которые выпадали на ее долю. Занятые почти все время подниманием больных, катавшихся по полу, они должны были то и дело останавливать и удерживать тех из охваченных бредом больных, которые норовили выбрасываться из окон на улицу.
Некоторые, увидев воду, бежали по направлению к ней и не для того, чтобы утолить жажду (так как были такие, которые бросались в море), а просто потому, что лишены были рассудка. С такими больными приходилось выдерживать упорную борьбу, чтобы заставить их принять пищу, которую они принимать не хотели. Были и такие больные, которые вследствие отсутствия попечения умирали с голоду и от всяких других причин прямо на улицах.
Византия переживала ужасную пору…
Будто сам Господь отвратился от нее в этот год, и, чем дальше шло время, тем все более и более усиливалось бедствие…
IX. Первый гром
Все слушали старика, затаив дыхание, и одобрительно покачивая головой, ожидая, что он будет говорить далее.
– И никто не знал причин этого недуга, – продолжал старец. – Так как никто не понимал в этой странной болезни, то некоторые врачи, предполагая, что тайным источником ее служат опухоли, стали вскрывать трупы. Рассечение опухолей обнаружило лежащие на глубине язвы, злокачественность которых вызывала смерть или немедленную, или же через несколько дней. Было не мало и таких больных, у которых все тело было покрыто черными пятнами величиною в чечевичное зерно. Такие несчастные не выживали даже и одного дня и умирали все в течение одного часа. У некоторых вдруг появлялась кровавая рвота, во время которой они умирали. Беременные женщины, пораженные болезнью, безусловно были обречены на гибель. У одних являлся выкидыш, и они погибали в это время; другие погибали во время родов вместе с новорожденным младенцем. Рассказывают, что только три женщины остались при подобных условиях в живых, и только у одной новорожденный остался жив, несмотря на то, что сама мать погибла во время болезни. И, вот, такая-то страшная болезнь продолжалась в Византии четыре месяца; из них в течение трех месяцев она свирепствовала с необыкновенным ожесточением. Вначале число смертных случаев мало превышало обыкновенное число смертей в городе.
Но по мере того, как болезнь шла вперед, число умиравших возрастало с каждым днем, достигши сначала пяти, а потом и десяти тысяч в день.
Каждая семья сама погребала своих умерших. Гробов не хватало, и потому их забирали силою. Вскоре при общей растерянности возникли беспорядки. Прислуга лишилась хозяев, самые могущественные граждане остались без прислуги или потому, что она заболевала, или потому, что ее удаляли. Огромное количество домов совершенно опустело, и трупы оставались в течение многих дней не погребенными, так как для этого не хватало рабочих рук.
Горячо сочувствуя такому общему горю, император Феодосий дал своему полководцу Феодору войска, отпустил ему денег и предоставил заботу о больных и умирающих. На него были возложены обязанности референдаря, как говорят латиняне, т.е., он должен был докладывать государю обо всех нуждах. Было постановлено, чтобы в тех домах, которые еще не опустели, лица, оставшиеся в живых, предавали земле тела своих умерших соседей. Благодаря великодушию императора и его денежному пособию, Феодор приступил к зарыванию тел умерших бедных жителей. Когда все могилы прежних кладбищ были переполнены телами, и смерть опустошила ряды рабочих, предававших тела земле и копавших новые могилы, новые могильщики, измученные все большим и большим количеством умиравших, вздумали взбираться на башни, выстроенные на городской стене, снимать с них крыши и бросать туда тела умерших. Когда все башни были наполнены трупами, их снова закрывали крышей. Но заразительные испарения, выделявшиеся от гниющих тел, в особенности когда дел ветер по направлению к городу, делались с каждым днем невыносимее. Похоронные обряды и правила были оставлены. Покойников везли без всяких провожатых, без напутственных молитв и песнопений, ограничивались тем, что их клали на берег моря.
И когда число их накоплялось, то они переносились в барку, которую и выпускали на произвол судьбы в открытое море.
Граждане, поняв эту видимую кару небес за их нечестивость, забыли о взаимной ненависти, чтобы принимать посильное участие в общем горе, и помогали друг другу в предавании мертвых тел земле.
Но это еще не все. Люди, предававшиеся до сих пор разным порокам и страстям, вдруг оставили свою порочную жизнь и обратились со всею горячностью к религии. И не потому, чтобы они были просвещены и почувствовали угрызения совести или чтобы в их душах вдруг зародилась любовь к добру, нет, эти несчастные, привыкшие к пороку, благодаря своей извращенной природе, не могли так измениться. Они только были напуганы, видя постигшее всех несчастье, и, считая, что смерть висит над их головами, они почувствовали необходимость изменить образ жизни. Но, как только они освободились от чувства страха и сочли себя вне опасности, благодаря ослаблению болезни, так сейчас же предались снова своим преступным страстям и даже превзошли самих себя в своих дурных и гнусных деяниях.