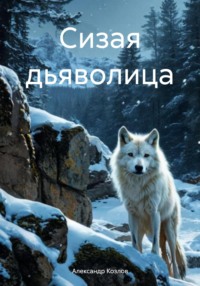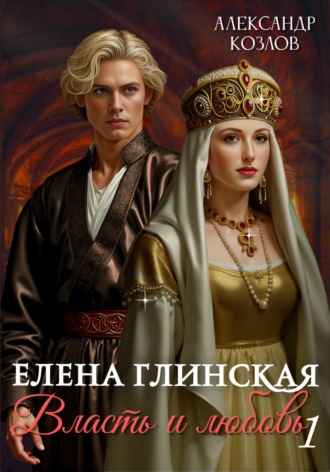
Елена Глинская: Власть и любовь 1
Михаил Глинский вздохнул.
– У меня есть план, – ответил он, и в его глазах вспыхнул хитрый огонек. – Правда, рискованный да неизвестно, получится ли все так, как я замыслил, но сие – наш единственный шанс,
Елена внимательно слушала его, понимая, что их следующий шаг определит ее судьбу. Она окинула опочивальню оценивающим взглядом, восхищаясь роскошью, которая ее окружала. Возможно ли допустить, чтобы все это великолепие: красота великокняжеской опочивальни, богатство Кремлевского дворца и сокровища державной казны – досталось кому-то другому, а не ей!
– Говори, Михаил Львович, я готова! – произнесла она твердым голосом, и в глазах воспрянувшей духом правительницы снова вспыхнул тот стальной огонек, которого так боялись ее враги.
В эту ночь ей так и не удалось заснуть, несмотря на усталость. Она подошла к окну и взглянула на просыпающийся Кремль. Солнце еще не взошло, но первые лучи уже окрашивали башни в золотистый цвет. Елена знала, что у нее еще много времени, прежде чем ее сын станет достаточно взрослым, чтобы править самостоятельно. Однако расслабляться нельзя: она должна использовать каждую минуту этого времени, чтобы укрепить его положение на троне, даже если это будет стоить ей жизни.
Глава 7
Глинская в черном вся стоит,
По мужу искренне скорбит.
А Оболенский в степь помчал,
Наказ казакам передал,
Чтоб земли наши охраняли —
Врагов к Москве не подпускали!
Сорок дней после ухода великого князя Василия III ознаменовались грандиозным поминовением.
Елена Глинская, облаченная в траурные одежды, с непритворной скорбью в глазах, организовала торжественные богослужения по всем канонам православной веры. В величественном Успенском соборе, хранившем память о многих поколениях московских правителей, прошла торжественная литургия, за которой последовала проникновенная панихида.
В то время как молитвы наполняли воздух, в тени колонн собора митрополит Даниил тихо беседовал со своим духовником, обсуждая происходящее и значение этих священных моментов. Однако вскоре разговор принял иное направление, и глава Московской епархии словно невзначай заметил:
– Не по-нашему сие, когда жена на престоле – что скажут иные княжества?
– Владыка, – ответил духовник, – важно не то, кто правит, а как правит. Княгиня Елена умна и тверда духом.
– Слишком тверда! – зыркнул на него митрополит, чем поверг исповедника в замешательство и напрочь отбил у него охоту продолжать этот опасный разговор.
Великая княгиня повелела устроить поминовения не только в Москве, но и во всех крупных городах державы. В каждом храме, от северных земель до южных границ, звучали молитвы за упокой души почившего правителя. После служб устраивались обильные трапезы, за которыми делили хлеб как знатное духовенство, так и простой люд.
Особое внимание Елена Глинская уделила делам милосердия. По ее велению в день сороковин великого князя щедро раздавали милостыню: беднякам дарили деньги и еду, нищим странникам открывали княжеские столы, приютам и больницам оказывали щедрую помощь, а монастыри получили богатые вклады.
Для проведения служб были приглашены лучшие церковные певчие. Их голоса, подобно звукам небесных арф, исполняли печальные песнопения, посвященные памяти усопшего. Весь день в княжеских палатах Кремлевского дворца горели свечи и лампады, а монахи непрестанно читали молитвы, наполняя пространство благоговением.
Елена Глинская, воплощение скорби и достоинства, лично присутствовала на каждой церемонии, демонстрируя свою глубокую веру и преданность памяти мужа. В ее глазах читалась неизменная печаль, а движения были исполнены достоинства. После церковных служб она уединялась в своих покоях и в тишине предавалась молитвам.
Эти торжественные поминовения стали не только данью памяти великому князю, но и символом преемственности власти. Пышные церемонии показывали подданным, что государство остается сильным и стабильным под управлением мудрой правительницы при малолетнем наследнике престола.
В тот же день, в память о супруге, Елена Глинская повелела заложить несколько новых храмов и монастырей. В Расходной палате Кремля, где собрались самые влиятельные бояре для обсуждения государственных расходов и доходов, царила торжественная тишина.
На совещании не присутствовал князь Телепнев-Оболенский, и его отсутствие не осталось незамеченным.
Елена Глинская обвела взглядом собравшихся и произнесла:
– Достопочтенные бояре! В память о моем супруге, великом князе Василии III, я повелеваю заложить новые храмы и монастыри. Пусть они вознесутся к небесам золотыми куполами и станут вечным памятником нашему правителю.
Боярин Василий Григорьевич Морозов, склонив голову, молвил:
– Государыня, это благое намерение. Следуя древней традиции наших предков, мы увековечим память великого князя в камне и золоте, дабы потомки помнили его деяния.
– Храмы и монастыри не только прославят князя, но и станут оплотом веры и мудрости на многие века, – добавил боярин Дмитрий Ростовский.
– Да будет так, – утвердительно кивнула Елена Глинская. – Пусть зодчие приступят к работе немедля. А вы, бояре, проследите, чтобы все было исполнено в лучшем виде, подобающем памяти великого князя.
Она с вызовом посмотрела на Василия Шуйского. Думный боярин понял, что правительница ожидает его мнения по поводу только что принятого решения и готова к схватке, если оно не совпадет с ее собственным. Василий Васильевич не стал рисковать и омрачать и без того печальную обстановку. Не произнося ни слова, он склонил голову в знак согласия, и остальные бояре последовали его примеру.
Тут же палата наполнилась шепотом голосов – бояре обсуждали предстоящие дела, планируя закладку новых святынь, которые вскоре должны были подняться над московскими улочками, вознося к небу свои золотые купола.
А тем временем князь Иван Телепнев-Оболенский во главе многочисленного отряда стрельцов находился у южных рубежей государства с важной миссией. Официально Елена Глинская поручила ему проверить состояние крепостей и гарнизонов в Стародубе, а также боеспособность войск на границе с Крымским ханством. Как опытному военачальнику, ему предстояло оценить фортификационные сооружения и спланировать усиление защиты окраин княжества: в период траура и потенциальной нестабильности безопасность границ требовала повышенного внимания.
При этом его реальная задача носила куда более серьезный и деликатный характер, чем простое инспектирование военных укреплений. Втайне от посторонних глаз князю предстояло встретиться с вольными казачьими атаманами – независимыми предводителями, чьи дружины несли пограничную службу. Такие встречи требовали особой дипломатии и умения находить общий язык с людьми, которые уважали только силу и преданность.
– Они верные слуги, но привыкли к особым условиям службы, – сказала великая княгиня Ивану Телепневу-Оболенскому за день до его отбытия из Москвы. – Надобно договориться о дополнительной охране границ на время траура. Особенно важно свидеться с атаманом Венжиком. Венжик – волк-одиночка, но верный. Люди его – как стихия, неукротимые и своевольные. А коли доверие их заслужишь – станут надежным щитом на южных рубежах. Окажи им честь, привези дары достойные: самолучшие соболиные шубы для атамана и его старших сотников, оружие закаленное да кольчуги крепкие. И не забудь про чарку серебряную – без нее ни один казак серьезного разговора не начнет.
Елена Глинская вплотную приблизилась к Телепневу-Оболенскому, будто опасалась, что даже стены ее личных покоев могут подслушать то, что никому знать не полагалось.
– Только смотри, – она предостерегающе подняла руку, – держи ухо востро. Казаки – народ хитрющий, тотчас поймут, коли попытаешься их перехитрить либо обмануть. Говори прямо, но с умом. Обещай лишь то, что выполнишь, и держи свое слово крепче железа. И вот еще что, – ее голос стал едва слышен, – поговаривают, что Байда влияние имеет на прочих атаманов. Ежели удастся с ним сговориться – прочие сами потянутся. Но помни, как Отче наш: казаки ценят не сан твой, а силу духа и верность слову.
– Ведаю я сие, моя государыня, и все уразумел: безопасность державы – превыше всего, – Телепнев-Оболенский смотрел на нее влюбленными глазами и ослепительно улыбался.
– Довольно пялиться на меня как дитя несмышленое! – воскликнула молодая женщина и рассмеялась, уже не заботясь ни о стенах вокруг, ни об ушах за ними. – Мы о делах важных толкуем, а ты глядишь на меня двумя ясными небесами и мысли мне путаешь!
– Гляжу, дабы запечатлеть твой лик прекрасный!
– Ну, ладно, гляди, – смущенно отмахнулась Елена. – Только ухо держи востро, а нос – по ветру!
В переходный период, когда престол Московского государства фактически пустовал в ожидании венчания на великое княжение Иоанна IV, обстановка на южных границах оставалась крайне напряженной. Русское правительство особо не рассчитывало на дружественные отношения с Крымом, поэтому крупные силы приходилось держать в Коломне, и это создавало дополнительную напряженность в регионе.
Казачьи отряды под предводительством атамана Венцеслава Хмельницкого, известного как «Венжик», занимали стратегически выгодное положение, обеспечивая надежную защиту от нападений крымских татар. Поэтому главная цель переговоров заключалась в том, чтобы убедить казачьи отряды усилить охрану государственных рубежей: в дни траура существовала реальная угроза набегов с южных пределов, и противники могли воспользоваться сложившейся ситуацией.
Когда весть о кончине великого князя Василия III пронеслась над Русью подобно грому в ясный день, в далекой Литве уже готовились к набегу. Король Сигизмунд жадными глазами уставился на богатые смоленские земли, а вальный сейм, подобно стае хищников, предвкушал богатую добычу и войну.
Несмотря на все усилия посла Юрия Васильевича Глинского, предотвратить угрозу военного конфликта между Москвой и Литвой не удалось. Сигизмунд I, воспользовавшись нестабильностью на московском престоле, предъявил дерзкий ультиматум – вернуть границы к рубежам 1508 года. Москва отвергла эти притязания, и над Русью сгустились грозовые тучи.
На южных границах, где каждый холм и каждая река помнили следы татарских набегов, появились первые признаки надвигающейся бури. Литовские и крымские войска, как ненасытные волки, кружили вокруг границ, примериваясь к богатым русским землям.
В январские морозы 1534 года Стародуб оставался важным стратегическим пунктом на пути возможных нападений со стороны Литвы, и его значение возрастало с каждым днем. Город активно готовился к возможной новой осаде: укреплялись стены, пополнялись запасы продовольствия, усиливались гарнизоны.
Жители города, привыкшие к постоянной угрозе, вели обычную жизнь, но при этом были готовы к любым неожиданностям. Стародубские купцы, несмотря на тревожное время, старались поддерживать торговлю, хотя и заметно поредевшую – многие боялись выезжать в такие неспокойные времена. В торговых рядах с тревогой шептались, что литовцы готовят большой поход и что в их войске много жолнеров – наемников из дальних земель.
Успех миссии Телепнева-Оболенского зависел не только от военной силы, но и от его способности убедить вольных атаманов в том, насколько важно их участие в защите всей Руси в эти сложные времена. От того, насколько успешно князь справится с секретной миссией, возложенной на него великой княгиней, зависело спокойствие и безопасность внутренних регионов во время траурных церемоний. Пока Москва погружалась в скорбь, юго-западные границы должны были оставаться неприступными для неприятелей.
Перед отъездом из Москвы Иван Телепнев-Оболенский провел бессонную ночь в опочивальне великой княгини. Они лежали на роскошной кровати, и князь смотрел на Елену с нежностью и преданностью.
– Моя государыня, – прошептал он, – у тебя не должно быть ни крупицы сомнения в моих усилиях.
Елена приподнялась на локте и, приблизившись к нему, коснулась щекой его гладко выбритой скулы.
– Иван Федорович, – прошептала она мягким голосом возле его уха, – ты должен ведать, что я вполне полагаюсь на тебя. Твоя мудрость и отвага не однажды доказали свою ценность.
– Твое доверие – моя величайшая честь. Готов я душу за тебя положить.
Елена прижалась щекой к его лицу, и он почувствовал теплую влагу на своей коже.
– Молю, будь осторожен, – прошептала Елена, борясь со слезами, которые предательски катились у нее из глаз, – храни тайну своего задания. От сего зависит безопасность всей Руси.
– Клянусь, что никто не узнает настоящей цели моего странствия. Действовать буду осмотрительно и возвращусь с добрыми вестями.
– Верю, – она неожиданно толкнула его в грудь, и, когда он упал на спину, с кошачьей ловкостью взобралась на него сверху.
Князь вскрикнул, ощутив ее тепло, и оба канули в небытие…
Глава 8
Земли братья попросили,
Да отказ лишь получили.
Глинская ни пяди не дала,
У них надежду отняла:
Поворот им от ворот –
Будут помнить сей урок!
Едва отзвучали молитвы об усопшем великом князе, как на второй день после сороковин в покои Елены Глинской принесли неожиданное известие. Князь Андрей Иванович Старицкий, ее деверь, просил срочной аудиенции. После короткого раздумья вдовствующая княгиня назначила прием через день.
Когда назначенный час настал, во дворец прибыли не только сам князь Андрей Старицкий, но и его старший брат Юрий Иванович Дмитровский. Их совместный приезд, столь редкий в стенах московского Кремля, не предвещал ничего хорошего: наверняка братья Василия III пришли обсудить вопрос первостепенной важности, и их совместный приход уже свидетельствовал о серьезности намерений.
Напряженные отношения между Еленой Глинской и братьями ее мужа сложились задолго до кончины Василия III. Истоки этого противостояния уходили корнями в далекое прошлое, когда братья великого князя еще при его жизни чувствовали себя обделенными.
Юрий Иванович Дмитровский, один из главных претендентов на великокняжеский престол после смерти Василия III, имел все основания для своих притязаний. В свои пятьдесят три года он обладал большим опытом управления обширными территориями, включая собственные уделы в Дмитрове, Звенигороде, Кашине, Рузе, Брянске и Серпейске. В отличие от младшего брата – сорокатрехлетнего Андрея Старицкого, который владел сравнительно небольшой частью земель, Юрий Иванович был хорошо подготовлен к управлению государством.
Еще при жизни Василия III Юрия терзали серьезные обиды на своего венценосного брата. В 1507–1508 годах польский король Сигизмунд I предлагал ему помощь в захвате московского престола, что свидетельствовало о признании его как одного из законных претендентов. Однако Юрий отказался от этого предложения. С рождением Иоанна IV шансы Юрия на престол уменьшились. Его переполняло недовольство рождением наследника, который становился главным претендентом на престол. Это раздражение проявилось даже в том, что он не соизволил явиться на крестины племянника.
Андрей Старицкий долгое время оставался Василию III добрым братом и верным соратником. Вместе с великим князем он участвовал в важных государственных мероприятиях, в том числе в походе на Смоленск. Однако Василий III, опасаясь передачи прав наследования боковым ветвям рода, намеренно сдерживал братьев, запрещая им жениться до рождения собственных сыновей. Это привело к напряженности в отношениях между братьями. Только в 1533 году, незадолго до смерти, государь позволил Андрею создать семью с Ефросиньей Хованской.
Вопрос престолонаследия резко обострился после кончины великого князя, который завещал престол своему сыну Иоанну. Однако братья покойного Василия III считали себя более законными претендентами на власть по нескольким причинам: во-первых, оба они – взрослые и самостоятельные мужчины, во-вторых, обладали достаточным опытом управления, а в-третьих, происходили из старшей ветви Рюриковичей.
Кроме того, причиной противостояния с Еленой Глинской стала твердая приверженность князей к удельной системе правления, которая веками определяла жизнь русского государства, и в действиях великой княгини они видели попытку разрушить эту традицию. Юрий Дмитровский, правивший в своем уделе, и Андрей Старицкий, сидевший в своем княжестве, воспринимали растущую централизацию власти как прямую угрозу самому существованию их княжеского статуса и традиционному образу жизни. Каждый из них привык самостоятельно управлять своими территориями: они имели собственные дворы, войска, казну и могли проводить относительно независимую политику. Юрий Дмитровский, например, мог собирать налоги, вести судебные дела и даже устанавливать отношения с соседними княжествами. Андрей Старицкий также пользовался широкими полномочиями в своем уделе.
Братья восприняли передачу власти трехлетнему племяннику и его матери-регентше как личное оскорбление и ущемление их прав. Они считали, что по древней традиции престол должен унаследовать старший в роду, то есть один из них. То, что Василий III, умирая, обошел их стороной, вызвало не только обиду, но и острое чувство несправедливости. В их сердцах теплилась надежда, что они смогут воспользоваться ослаблением центральной власти и захватить контроль над государством. Они мечтали о возрождении былой системы удельных княжеств, где каждый из них мог бы править самостоятельно, не подчиняясь Москве. Это стремление к независимости подпитывалось их желанием сохранить традиционный уклад жизни и власть над своими территориями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Частушки к эпиграфам глав – в авторском сочинении.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: