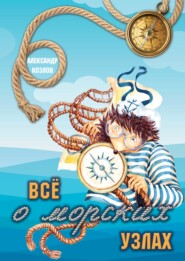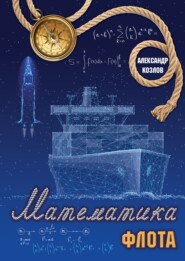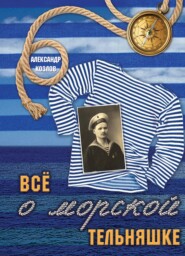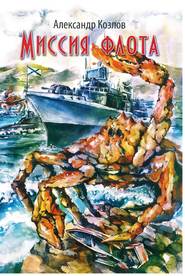По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С новым потеплением климата московское оледенение быстро прекратилось. Произошло сильное поднятие Центральной части Русской платформы и сильное переуглубление речных долин. В долинах рек сформировались вторые террасы. Началась коренная перестройка гидрографической сети. Подмосковье было захвачено верховьями бассейна древней Камы. Образовалась современная огромная долина Волги. Подмосковье оказалось в бассейне Каспийского моря. Межледниковый век сменился новым, ледниковым – валдайским. Опять на территории Скандинавского полуострова образовался огромный ледниковый щит с мощностью льда около 4000 м. Снова потоки льда пересекли Балтийское море и вторглись на опускающуюся территорию европейской части СССР. Однако на этот раз льды уже не дошли до Подмосковья, а остановились на Валдайских горах. Поэтому оледенение получило наименование валдайского.
В Подмосковье в это время установился суровый субарктический климат, и на многие сотни километров протянулась тундра с карликовыми березами и полярной ивой. Но тундра не была безжизненной – мамонты и шерстистые носороги обитали в этой суровой обстановке. Скелеты их часто находят теперь в Подмосковье. На границе со льдами обитал человек. Во время последнего оледенения сформировались первые террасы в долинах рек. Климат постепенно улучшался, становился более тёплым. Наступила послеледниковая голоценовая эпоха. Мамонты и шерстистые носороги вымерли, тундровая обстановка сменилась лесной.
Вот как этот период описал А.В.Арциховский, автор знаменитой книги «Основные вопросы археологии Москвы» (1947): «В ледниковом периоде берега Москвы-реки ещё не были, по-видимому, заселены человеком, так что палеолита у нас может и не быть. Ледниковый щит третьей ледниковой эпохи плотно покрывал эти места, растительности не было, и людей тоже. Южная граница ледника четвёртой ледниковой эпохи проходила, хотя и к северу от Москвы, но слишком близко (к югу от Верхней Волги), и Подмосковье тоже едва ли было заселено. Впрочем, точные границы человеческого обитания не установлены для палеолита нигде, тем более не установлены колебания таких границ, несомненно, происходившие тогда неоднократно. Поэтому не будет ничего особенно невероятного, если палеолит все-таки, в конце концов, найдётся в Москве или под Москвой. Правда, слишком надеяться на это не приходится, палеолитические стоянки в Средней России к северу от Оки пока неизвестны, и это едва ли случайно. Ближайшая к Москве из этих стоянок находится на Оке, в Карачарове близ Мурома. Конец четвёртой ледниковой эпохи и окончательное отступление ледника является для археологов рубежом между палеолитом и мезолитом. В мезолите страны, освобождавшиеся от ледника, всюду заселялись человеком. В Московской области мезолитические стоянки пока неизвестны, но не приходится сомневаться, что они будут открыты. Они уже известны и в более северных областях, например на Верхней Волге (стоянка в Соболеве против устья Дубны). Впрочем, исследование их только еще начато, и надо надеяться, что оно в близком будущем позволит археологам проследить все этапы первичного заселения человеком Средней России вообще, Подмосковья в частности. Неолитических стоянок между Волгой и Окой уже известно очень много. Только отличить, какие из них относятся к неолиту, какие к бронзовому веку, пока удаётся редко».
Основные археологические культуры Московского края
Археологическая культура – это совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе, и имеют общие черты. Обычно археологическую культуру называют по какому-либо характерному признаку, которым она отличается от других: по форме или орнаменту керамики и украшений (например, культура воронковидных кубков), обряду погребения (например, катакомбная культура) и т. д. или по той местности, где были впервые найдены наиболее типичные памятники данной культуры (например, днепро-донецкая культура). Понятие археологической культуры является основным при описании народов, о которых нет письменных источников.
Археологические находки – остатки древних поселений, сооружений, погребений, отдельные предметы, найденные на территории Московского края, свидетельствуют о том, что его заселение происходило с глубокой древности. В эпоху каменного века – палеолита, когда граница материкового льда, покрывавшего большую часть Европы, проходила по Верхней Волге, сюда вслед за отступающими на север льдами вместе с растительным и животным миром впервые пришёл человек. Недалеко от села Братцева, на берегу реки Сходни, археологи нашли следы Homo Sapiens, а рядом с ним кости первобытного быка, мускусного овцебыка и северного оленя. Это было время, когда по нашей земле бродили мамонты, о чём свидетельствуют раскопки в Рублёве и Крылатском. Учёные считают, что человек появился здесь примерно 22–25 тысяч лет назад. По другим данным, начало заселения Московского края человеком относится к периоду верхнего палеолита, а это около 17–23 тысяч лет назад. Самая древняя стоянка, Зарайская, относится к костенковско-авдеевской археологической культуре.
Откуда же пришли сюда кочевые племена? По мнению археологов, их движение началось с территории современной Моравии (Чехии). Вдоль долин Вислы, Припяти, Десны они добирались до бассейна Дона, следуя за животными, миграция которых была вызвана резким потеплением. Степные зубры – бизоны – стремились в приледниковую зону, сочетавшую тундровую и степную растительность. Охотники на бизонов жили и на Зарайской стоянке, где в 2001 году была найдена ритуальная статуэтка из бивня мамонта, изображавшая этого желанного промыслового зверя.
Эпоха мезолита (среднего каменного века) в Московском крае характеризуется окончательным стаиванием ледника и изменением флоры и фауны региона, появлением множества озёр и рек. Охотники и собиратели, жившие дарами реликтовых лесов, отличались друг от друга по технике обработки камня и изготовления кремнёвых орудий и, скорее всего, принадлежали к разным общностям (условно говоря, группам племён). Исследователи относят их к двум разным археологическим культурам – иеневской и бутовской, получившим названия по стоянкам в Тверской области. Одно из древнейших поселений иеневской культуры, VIII тысячелетия до нашей эры, открыто возле села Льялово в верховьях реки Клязьмы.
В неолите, новом каменном веке, происходит дальнейшее развитие присваивающего хозяйства с ориентацией на добычу лесных видов животных и рыболовство. Переход к оседлому образу жизни привел к появлению и широкому распространению керамики – сосудов из обожжённой глины. Среди неолитических памятников Подмосковья выделяются три последовательно сменяющие друг друга археологические культуры: верхневолжская, льяловская и волосовская. «Верхневолжцы» делали керамику из глины с примесью крупного шамота и помёта водоплавающих птиц. Специальными штампами с длинными или короткими зубцами на сосуды, имевшие заострённое донце, наносился орнамент. Он ярусами покрывал большую часть их поверхности. Стоянки (поселения) верхневолжской культуры датируются второй половиной VI–IV тысячелетиями до нашей эры.
В селе Льялово и в Серебряном бору есть и поселения льяловской культуры. Они датируются III–II тысячелетиями до н. э. (раскопки Жукова, 1923 г.). К этой же культуре относятся стоянки у д. Бережки Рузского района, у с. Никола-Перевоз на р. Дубне, в Щукино – на территории современной Москвы. Стоянки обычно располагались в долинах рек, на берегах озёр, потому что реки тогда служили дорогами, а основным занятием людей были рыболовство и охота. Об этом свидетельствуют археологические раскопки: четыре пятых находок пищевых остатков составляют остатки костей разных рыб, водоплавающих птиц, и лишь пятая часть костей принадлежит лесным зверям и птицам. Людям тогда были известны только орудия из камня и кости: топоры, ножи, рыболовные крючки, наконечники стрел.
Из глины они делали сосуды для варки пищи, которые затем обжигали на костре и украшали причудливыми орнаментами, В зимнее время рыболовы и охотники жили в круглых землянках с коническими крышами, а летом в лёгких шалашах. Теперь там торфяник, а в неолите было озеро, и люди жили на настиле из жердей на берегу. Пыльцевой микроскопический анализ (в торфе много древесной пыльцы) определил дату этой стоянки. Как известно, сравнительное изучение пыльцы в разных археологических слоях позволило палеоботаникам установить, как в Северной Европе менялись климатические периоды. Льяловская стоянка относится по составу пыльцы к концу влажного и тёплого атлантического периода, т. е. к концу IV или началу III тысячелетия до н. э. Таким образом, эта стоянка старше почти всех других неолитических стоянок нашей страны. Исследователь этой стоянки Б.С. Жуков отметил, что на архаизм Льялова указывает и характер кремнёвых орудий. Там ещё обычны массивные орудия миндалевидной формы, так называемые макролиты, характерные для позднего мезолита, хотя наряду с ними часты скребки и стрелы типов уже вполне неолитических. Полированных орудий ещё нет. Но керамика уже покрыта ямочно-гребенчатыми узорами, характерными для всех стоянок нашей лесной полосы неолита и бронзового века. Черепки с ямочными и гребенчатыми вдавлениями во множестве находились на стоянках, окружающих Москву со всех сторон. Надо полагать, что они будут попадаться и на территории самой столицы, где стоянки неолитического типа тоже вероятны. Остатки одной из них исследовал в 1924 г. Б.А. Куфтин в черте города, в Щукине, на левом берегу Москвы-реки, возле устья реки Химки. Там была собрана целая коллекция черепков всё с теми же узорами. Как известно, основная масса наших стоянок хронологически относится уже к бронзовому веку, ко II тысячелетию до н. э., являясь неолитическими только по культурному облику. По-видимому, к этому же периоду можно отнести и Щукинскую стоянку, хотя материалы для датировки там слишком скудны. Климатически это уже суббореальный период, датируемый 2500-500 гг. до н. э. Климат стал значительно суше и остался довольно тёплым (немного теплее, чем теперь). Граница степи и леса проходила гораздо севернее, чем сейчас. Степь заходила на Оку, а берега Москвы-реки оставались лесистыми.
В бронзовом веке (II тысячелетие до н. э.) на московских землях начинает развиваться фатьяновская культура, получившая своё название от села Фатьяново под Ярославлем, где были сделаны первые находки её памятников. В этот период фатьяновские племена занимали почти всю центральную (лесную) часть европейской территории России от Псковского озера до реки Вятки, от верховьев Десны до устьев Суры, Свияги и Цивиля и от границ Вологодской области до Пензы.
В 8 томе серии «Археология СССР», изданном в 1987 году под редакцией академика Б.А. Рыбакова «Эпоха бронзы лесной полосы СССР» сказано: «Сейчас фатьяновская культура заняла значительное место в древнейшей истории центра Русской равнины. Огромная территория распространения фатьяновских памятников в Европейской части СССР, влияние фатьяновской культуры на дальнейшие исторические судьбы древних племён Волго-Окского междуречья… связь последней с вопросами этногенеза славян, балтов и германцев поставили фатьяновскую проблему в ряды исторических проблем общеевропейского значения…».
Фатьяновская культура известна нам в основном по раскопкам могильников (захоронений). На территории Московской и Калужской областей открыто свыше 30 могильников, а всего их известно около 300. Поселения фатьяновцев встречаются крайне редко. В Москве фатьяновские могильники обнаружены в Спас-Тушине и Давыдкове. В Московской области известны Абушковский, Новлянский, Баланинский, Солнечногорский, Трусовский (Истринский), Икшанский, Верейский и другие могильники. Найденные в Московском крае могильники содержат от 2 до 10 погребений и расположены сравнительно далеко друг от друга. Небольшое количество фатьяновских вещей на стоянках Московской области, а также малое число погребений в могильниках позволяет предположить большую подвижность московско-клязьминских племён фатьяновской культуры и наличие здесь небольших кратковременных поселений.
Фатьяновские грунтовые могильники представляли собой родовые кладбища. Располагались они обычно на высоких холмах или на береговых склонах рек и озёр. Выбор высоких мест для погребения умерших имел не только религиозное значение, связанное с культом Солнца, но и практическое: с высоких холмов открывался обзор окружающей местности, и сами холмы были видны издалека. Наружных признаков, свидетельствующих о погребениях, могильники не имеют; открыты они были случайно при проведении земляных работ. Этим фактором объясняется небольшое число найденных могильников.
Фатьяновская культура сформировалась на основе так называемой культуры боевых топоров, создателями которой были древние индоевропейские племена. Название культуры возникло из обычая этих людей класть в мужские могилы каменный боевой топор. Другие названия этой культуры («шнуровой керамики» и «одиночных могил») основаны на характерном способе орнаментации керамики и погребальном обряде. Но настолько ли важна фатьяновская культура в изучении прошлого именно нашей страны?
Вот как о фатьяновской культуре и культуре шнуровой керамики (КШК) в своей новой книге «Народы и личности. Что показал ДНК-анализ» (2022) написал основатель ДНК-генеалогии, доктор химических наук, биохимик Анатолий Алексеевич Клёсов: «Эти две археологические культуры выступают историческим и культурным тандемом: КШК (5200–4300 лет назад) из Центральной и Восточной Европы со временем переходит в фатьяновскую культуру (4900–4000 лет назад), неся историческую, культурную и генеалогическую преемственность». Еще ранее А.А. Клёсов очень показательно и доходчиво говорил на этот счёт: «Много копий сломано вокруг того, кто такие русы и откуда они появились. Немало напридумывали интерпретаций, в которых отсутствие фактов «компенсируют» буйной фантазией. ДНК-генеалогия получила точный ответ на этот вопрос. «Точный» здесь – это тот, который в максимальной степени согласуется с объективными научными данными. Итак, напомню, что для истории Русской равнины ключевое значение имеют культура шнуровой керамики (КШК) и фатьяновская культура. Первая зародилась примерно 5200 лет назад, а закончилась 4500 лет назад. Именно она перешла в фатьяновскую культуру, простиравшуюся от Белоруссии до территории нынешнего Татарстана и Чувашии. Так вот, фатьяновцев никогда русами не называли только потому, что по понятиям многих историков славяне древними быть не могут. Якобы у славян и русских практически нет корней. Иначе говоря, по умолчанию принимается, что древних предков у славян вообще и русских, в частности, нет и не было. Об антах и склавенах еще можно найти некоторые сведения в литературе, но о том, кем были фатьяновцы, нет ничего. Типа, непонятно, кто же это такие. Однако ДНК-анализ показал, что фатьяновцы принадлежат к гаплогруппе R1a, а половина современных этнических русских тоже – R1a».
Следующей по времени была дьяковская культура раннего железного века, существовавшая в VII до н. э. – VII веках на территории Московской, Тверской, Вологодской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областей. Название культура получила по Дьякову городищу у села Дьяково (около Коломенского) в черте современной Москвы. Двигаясь на запад, дьяковцы подчинили абашевскую и фатьяновскую культуры – с большой степенью достоверности индоевропейские. Дьяковцы – предки упоминающихся в летописи муромы, мери, веси и других, составлявших группу финноугорских племён, родственных современным финнам и карелам. Дьяковская культура в Московском крае представлена остатками укреплённых поселений (городищами) и неукреплёнными селищами. Известно множество дьяковских городищ на территории Москвы – в Кунцеве, Мамонове, Тушине, Котлах, Капотне. В Подмосковье известно около 150 дьяковских городищ. Самыми известными являются Старшее Каширское, Щербинское (на реке Пахра под Подольском), Троицкое (на правом берегу реки Москва у Можайска), Михайловское (на реке Озерне – правом притоке реки Руза в Волоколамском районе), Кузнечики (в Подольском районе на реке Петрица – притоке реки Моча, являющейся, в свою очередь, правым притоком Пахры), Неждинское (на реке Руза в Волоколамском районе). Кроме того, существовали незащищённые селища, как, например, в Москве – Филёвское, Дьяковское (рядом с городищем), Андреевское – у Воробьёвых гор. Плотность заселения этих земель постоянно увеличивалась.
Артемий Владимирович Арциховский (1902–1978), доктор исторических наук, член-корреспондент АН СССР, профессор, археолог, специалист в области славяно-русской археологии, основатель Новгородской археологической экспедиции, в своей работе «Основные вопросы археологии Москвы. Материалы и исследования по археологии СССР, № 7, М.-Л., 1947», упоминавшейся уже мною ранее, так говорит о принадлежности дьконовцев к славянам: «Этническая принадлежность дьяковских городищ до последнего времени не могла даже обсуждаться: пути для её определения не были намечены. Положение изменили знаменитые раскопки, произведенные П.Н. Третьяковым на городище у устья реки Сонохты на Верхней Волге в 1934–1935 гг. Совершенная археологическая методика позволила там выяснить хозяйство и быт древних людей с неслыханной для археологии науки полнотой. Здесь не место специально рассматривать это городище: оно слишком удалено от Москвы. Инвентарь его чисто дьяковский. После этих работ П.Н. Третьяков смог соединить убедительными связями дьяковские древности с раннеславянскими как по керамике, так и – особенно – по погребальным обрядам. Открытый им на Сонохте домик мёртвых, где хранились на подставках остатки трупосожжений (чем попутно объяснено отсутствие дьяковских могильников), генетически связан с подобными сооружениями, открываемыми в славянских курганах. Дьяковские городища Верхней Волги принадлежали, таким образом, ранним северо-восточным славянам. Ещё не известно, можно ли утверждать то же самое о дьяковских городищах в целом, в частности о подмосковных. Чем дальше, тем больше такое решение представляется вероятным».
Как известно, при формировании различных восточнославянских этнических групп немалое значение сыграл, наряду с другими факторами, аборигенный этнический субстрат, в разной степени влиявший как на антропологические, так и на культурные, и даже на их лингвистические особенности. Славянам на рассматриваемой территории (бассейн Верхней Оки и прилегающие к нему земли) предшествовал этнос (этносы), соотносимый современной исторической наукой с мощинской археологической культурой. Мощинская археологическая культура считается последним неславянским предшественником вятичей на территории бассейна Верхней Оки. Географические границы распространения этой культуры и более позднего вятичского ареала во многом совпадают, как, впрочем, и ряда более древних археологических проявлений. До настоящего времени исторической наукой не выработана единая точка зрения на место ранних вятичей по отношению к мощинской археологической культуре. Долгое время главенствовала точка зрения, утверждавшая, что временной разрыв между роменской (боршевской) культурой вятичей и мощинской (по всей видимости, балтской) составлял не менее двух-трёх столетий, а потому постановка вопроса о какой-либо преемственности представлялась необоснованной и ненаучной. Одним из крупнейших современных специалистов по этой археологической культуре Г.А. Массалитиной был вполне доказательно обоснован тезис об отсутствии генетической преемственности между мощинской культурой и памятниками боршевского типа: «К этому склоняет выявление ошибочности оснований для такого вывода и наличие более чем 300-летнего разрыва между древностями обеих культур» (Массалитина, 1994).
До недавнего времени почти доказанным считалось, что время существования мощинской археологической культуры в верховьях Оки было ограничено II–V вв., а потому она не может быть никак связана с роменско-боршевской культурой вятичей. Хронологический разрыв между ними полагался непреодолимым. Особенно говорящим был ярко выраженный разрыв между археологическими находками мощинской культуры и первыми славянскими артефактами: развитое производство железа, характерные фибулы, лощёная керамика, бронзовое литьё и неплохой уровень ювелирного дела мощинцев (их выемчатые эмали в XIX – начале XX вв. довольно часто принимали за готские и египетские изделия) явно не походили на поделки первых славянских поселенцев (Болдин и др., 1999). Грубость и относительная примитивность славянских орудий, керамики, прочих находок наряду с отсутствием следов хронологически близких мощинских и ромено-боршевских поселений представлялись явными доказательствами отсутствия контактов и, тем более, какой-либо преемственности. Впрочем, к иным выводам, из-за отсутствия необходимых материальных доказательств, прийти было тогда, по всей видимости, нельзя. В последние годы гипотеза о возможности прямого взаимодействия двух этносов, проживавших в разное время на одной территории, получила новое подкрепление: «после обработки керамических коллекций с верхнеокских памятников роменской культуры IX–X вв. появились свидетельства о сохранении традиций мощинской культуры в их керамическом комплексе» (Воронцов, 2011). Конечная датировка ряда мощинских поселений отнесла их уже не к V в, а к VI–VII вв. (Краснощёкова, Красницкий, 2006). Такого рода находки стали косвенным аргументом, подтверждающим гипотезу «об участии носителей позднемощинских традиций в формировании славянского населения Верхнего Поочья» (Воронцов, 2011). Помимо прочего, лингвистические исследования позволили выявить здесь наличие ярко выраженного верхнеокского субареала балтской гидронимии, что также является весомым доводом в пользу возможности межэтнических контактов вятичей и мощинцев, ибо передаваться иноязычные наименования водных объектов в те времена могли лишь изустно (ввиду отсутствия письменной фиксации). Дополнительным доводом может служить отсылающий к проживавшим там вятичам и мощинцам верхнедонской «локус балтийской гидронимии, обнаруженный в самое последнее время» (Топоров, 2000). Таким образом, значительно возросла вероятность продолжения существования небольших мощинских поселений вдали от разрушенных городищ, на берегах небольших рек и ручьёв верхнеокского бассейна. Данная гипотеза позволяет дать достоверное объяснение факту отсутствия у вятичей традиций изготовления знаменитых мощинских лощёных керамических изделий и художественных украшений, сохранение которых было бы более вероятным внутри более крупных и населённых поселений. В то же время погребальные обряды, в отличие от приёмов и навыков производства, естественным образом сохранились гораздо лучше в силу своего широкого распространения в поселениях всех масштабов. Именно их могли частично позаимствовать пришедшие на эти земли славяне, позже ставшие вятичами.
Согласно современным представлениям, вятичи являлись носителями одной из ветвей роменской (ромено-боршевской) славянской археологической культуры, научно выделенной в середине XX в. (Ляпушкин, 1947). К числу её носителей также относятся другие восточнославянские группировки – радимичи и северы (северяне). Истоки собственно роменской культуры по-разному трактуются разными специалистами. Наиболее древней из участников этого триединого культурного сообщества общепризнанно считаются северы (северяне), что подтверждается более высокой плотностью их населения и многочисленностью археологических памятников. Были и иные мнения, обосновывающие общее движение славян-колонистов с севера на юг, что в настоящее время не является ведущим трендом, хотя данные о наличии «неюжных» признаков у различных географически южных восточнославянских группировок ценны и должны быть отмечены (Третьяков, 1970). Таким образом, данные, полученные археологами, наводят на мысль о существовании южных и западных маршрутов первоначального расселения славян в бассейне Верхней Оки.
Не на пустом месте существует версия о том, что «приокские» и «вятские» вятичи являются если не двумя ветвями одного племени, то по крайней мере родственными народностями, и что пришли вятичи на Оку из района реки Вятки. Считается, что фатьяновцы были поглощены абашевскими племенами, а окончательную точку в истории фатьяновцев поставили племена дьяковской культуры. С середины I тыс. н. э. дьяковская культура приходит в упадок и за несколько веков исчезает, причем без признаков насилия извне. А какое могло быть насилие, если они были родственны со славянами – вятичами и кривичами? Просто у родственных племён появились самоназвания и некоторые различия в языке, быте, украшениях, похоронных обрядах и т. д.
Коснёмся немного других археологических культур, обнаруживаемых на территориях Московского края. Одна из них – абашевская. Это культура бронзового века II тыс. до н. э. Ареал распространения – преимущественно лесостепи (отдельные могильники встречаются и в лесной зоне) Восточной Европы от Северского Донца на западе до междуречья Урала и Тобола на востоке, на юге – с выходом в степь до излучины Волги и Дона. Носителей абашевской культуры относят к индоевропейцам. Хронологически в развитии этих культур намечены три этапа: 1) протоабашевский; 2) раннеабашевский (отсутствие широких контактов с представителями срубной культурно-исторической общности); 3) позднеабашевский (наличие значительных контактов со срубным населением). Поселения располагались, как правило, по берегам рек, на возвышенных мысах, на дюнах. В бассейне Дона и на Южном Урале раскопаны довольно большие по площади поселения с мощным культурным слоем, в основном неукреплённые, иногда окружённые рвами. Жилища и производственные постройки могли быть наземными, слабо углублёнными, реже земляночными и полуземляночными… Погребения, от одного до нескольких, совершались под круглыми или овальными уплощёнными насыпями. В Подонье и в Самарском Поволжье известны захоронения в более ранние курганы, а также в грунтовые могильники. На Средней Волге и Оке курганы иногда окружались кольцевыми ровиками и столбовыми оградами, в Южном Приуралье сооружались каменные ограды.
Подчеркнём, что поселения абашевцев и их захоронения в курганах напоминают славянские. Отметим и связь абашевцев с фатьяновцами: «В центре Русской равнины выделяется пласт протоабашевских древностей, относящихся к средне бронзовой эпохе. Его формирование происходило во взаимодействии южных культур ямно-катакомбного круга и северных – области боевых топоров и шнуровой керамики» (энциклопедия «Всемирная история»). Абашевские племена, по мнению археологов, имеют прямую связь с фатьяновскими.
В последнее время появляются всё новые и новые данные по изучению ДНК носителей археологических культур на территории нашей страны. Так, самые древние представители гаплогруппы R1a в Восточной Европе найдены в культуре Веретьё (Архангельская и Вологодская области) – возраст культуры около 11 тысяч лет, это первая культура после таяния ледника. Мезолитическая культура Веретье (Веретьё) – археологическая культура эпохи мезолита (9 тыс. лет до н. э.), локализованная на юге Архангельской области и севере Вологодской. Выделена она в 1983 году С.В. Ошибкиной на основе археологических исследований стоянки Нижнее Веретье, проведённых в 1978–1980 годах. Наиболее примечателен среди этих находок мужчина культуры Веретье, живший около 10785–10626 гг. до н. э. на мезолитической стоянке Песчаница (озеро Лача, Каргополье). Он имел мужскую гаплогруппу R1a5-YP1272. Там же была найдена и женская митохондриальная гаплогруппа U4 (середина IV тыс. до н. э.). Теперь человек из Песчаницы является самым древним известным носителем гаплогруппы R1a (до этого самым древним был охотник-собиратель со стоянки Васильевка-3 в нынешней Днепропетровской области, живший около 8825–8561 гг. до н. э.).
А в Карелии найдена на сегодняшний день самая древняя гаплогруппа R1a c датировкой 7265 ± 250 лет назад, которая была обнаружена на Южном Оленьем острове. Таким образом, практически от времени окончания Валдайского похолодания, которое закончилось примерно 8000 лет назад, и далее от Верхневолжской археологической культуры раннего неолита в Верхнем Поволжье и Волго-Окском междуречье (конца VI – первой четверти IV тыс. до н. э.), открытой Д.А. Крайновым в 1972 году, через волосовскою археологическую культуру, через фатьяновскую и абашевскую, вплоть до дьяковской и поздней славянской – прослеживается преемственность родственных племён. Менялись со временем предметы быта, орнаменты, украшения, типы жилищ и способы захоронения, а племена оставались те же самые. То есть древние предки русских жили там же, где до сих пор живут их потомки.
Люди на территории Московского края: происхождение и предполагаемые миграции
В X веке начинается постепенное заселение Московского края представителями восточнославянских племён. В результате масштабных раскопок курганных захоронений удалось установить, что в XII веке долину реки Москвы занимали славяне, принадлежавшие к потомкам летописного племени вятичей. При этом совсем рядом, в долине реки Клязьмы, проживали потомки совсем другого племени – кривичей.
В XII веке племенного разделения у славян уже не было, однако память о былой обособленности сохранялась в традиционных типах женских украшений. Границу между областями расселения вятичей и кривичей удалось установить по височным кольцам, найденным в погребениях. У вятичей височные кольца имели по пять или семь плоских выступов-лопастей, поэтому их называют лопастными. А у кривичей они были похожи на небольшие проволочные обручи или браслеты. В это же время в верховьях реки Протвы продолжало жить балтское племя голядь, которое «воевал» в 1147 году черниговский князь Святослав Ольгович – как раз перед своей знаменитой встречей с Юрием Долгоруким, встречей, после которой Москва впервые попала в летописи. Но о них мы очень подробно расскажем в последующих главах.
ДНК-генеалогия – основные понятия и терминология
ДНК-генеалогия – одна из областей естествознания, молекулярная история. ДНК-генеалогия рассматривает закономерности наследования изменений нерекомбинантных (негенных) участков ДНК человека в ходе его эволюции. Другими словами, ДНК-генеалогия изучает динамику накопления мутаций в ДНК человека, используя подходы химической и биологической кинетики, которые в свою очередь являются частью физической химии. Важнейшая особенность методологии ДНК-генеалогии – определение констант скоростей мутаций в ДНК (в первую очередь в тандемных повторяющихся последовательностях Y-хромосомы, так называемых маркерах, которых имеется примерно 2500, а также накопления снипов (необратимых мутаций в ДНК), и приложение этих констант к расчетам хронологии древних событий – древних миграций человека, времён жизни общих предков изучаемых популяций.
Согласно последним данным, в Y-хромосоме человека в среднем происходит одна мутация в 20 лет. Как правило, это «опечатка» в главной части хромосомы – очень длинной молекуле ДНК, которая состоит из примерно 59 миллионов структурных блоков (нуклеотидов), обозначаемых для краткости буквами A, C, G и Т. Такие мутации сохраняются тысячи и даже миллионы лет. Их сокращённо называют снипами, от английской аббревиатуры SNP (single nucleotide polymorphism).
Неоднократно отмечалось, что аналогом снипа можно считать кольцо, которое орнитологи надевают на лапку птице. Куда бы она ни полетела, кольцо всегда остаётся с ней, но никак не сказывается на её поведении, здоровье или плодовитости. В настоящее время в Y-хромосоме идентифицировано несколько сотен тысяч снипов, и их число постоянно нарастает по мере поступления новых образцов для анализа. Каждый снип регистрируется в специализированных базах данных.
Помимо этого, ДНК-генеалогия методологически базируется на работе с гаплогруппами. Данное наименование само по себе указывает на связь с понятием гаплоидных, то есть половых клеток, со слияния ядер которых начинается рождение потомства и обмен генетическим материалом. Однако этот обмен не затрагивает Y-хромосому, которая задает мужской пол ребенка и передаётся от отца. Отсюда следует, что все снипы, накопившиеся в Y-хромосоме по мужской линии за много поколений, остаются у новорожденного мальчика неизменными, и к ним добавляются его собственные. Это позволяет, в идеале, проследить по ним, как по архивным записям, родословную по прямой мужской линии на какое угодно время назад.
При массовом тестировании людей из разных стран мира выяснилось, что их можно поделить на большие группы, представители которых имеют один и тот же набор снипов в Y-хромосоме. Их назвали гаплогруппами, и ввели для них буквенные обозначения, которые при необходимости снабжают добавочными численными и буквенными индексами.
Генеалогическое древо Y-хромосомных гаплогрупп ныне живущих людей. (Звёздочками слева направо помечены позиции, занимаемые на древе людьми эпохи палеолита из Владимирской (Сунгирь), Воронежской (Костенки) и Омской (Усть-Ишим) областей и Якутии (Усть-Яна), у которых была расшифрована ископаемая ДНК (их мы подробно рассмотрим в главе о кривичах).
Филогенетическое древо гаплогрупп наиболее последовательно выстраивают специалисты из исследовательской группы YFull. На основании их данных было рассчитано генеалогическое древо известных на сегодняшний день гаплогрупп с временем их происхождения (временная шкала дана в тысячах лет до настоящего времени), которое в упрощённой форме приведено выше.
Другим результатом массового ДНК-генеалогического тестирования оказалось то, что гаплогруппы неравномерно распределены по разным странам и народам. Если сопоставить географическое распространение разных гаплогрупп с временами, когда они начали расходиться от общего корня, то это дает возможность использовать эти данные в качестве независимого критерия для оценки существующих гипотез о древних миграциях, процессах формирования тех или иных народов, распространения языков, технологических достижений и т. д.
Обозначения в виде комбинации букв и цифр отмечают ветви, дочерние к соответствующей «однобуквенной» гаплогруппе – так называемые субклады (от sub-clade, буквально – подветвь). Самые крупные из них (например, R1a) также часто называют гаплогруппами, хотя это не совсем точно с формальной точки зрения.
Наконец, важным инструментом ДНК-генеалогии является работа с гаплотипом – последовательностью нуклеотидов в Y-хромосоме. На сегодняшний день в Y-хромосоме найдено более 700 фрагментов, носящих название коротких тандемных повторов, или сокращенно STR (shorttandemrepeats). По аналогии со словом «снип» их в русской терминологии предложено называть стирами. Их выделение и анализ технически осуществить намного проще и дешевле, чем делать поиск всех возможных снипов среди 59 миллионов нуклеотидов.
Как оказалось, в стирах тоже происходят мутации, но другого рода, чем снипы. Время от времени при копировании ДНК фермент «сбивается со счета» и вставляет лишний блок в повторяющийся сегмент или, наоборот, воспроизводит его на один блок короче. Эти мутации случаются, как правило, чаще, чем снипы, и независимо друг от друга в разных сегментах. По законам комбинаторики, при достаточно большом наборе стиров для каждого человека можно получить своего рода индивидуальный «штрих-код», который присущ только ему и его родственникам.
Это свойство еще в 1990-е годы привлекло внимание экспертов-криминалистов, отобравших наиболее подходящие для своих задач повторяющиеся сегменты, которые стали называть маркерами. Каждый маркер получил свое обозначение вроде DYS392 или DYS438.
Наиболее ценное для ДНК-генеалогии свойство гаплотипов – это возможность выявить среди них родственные группы и рассчитать время, когда жил общий предок той или иной из них. Точность метода в лучших примерах достигает ±10 % на временной шкале от 200 до 5000 лет, что подтверждено, в частности, данными по документальной генеалогии и датировками исторических событий. Существует большой набор компьютерных программ, которые позволяют строить деревья гаплотипов, делить их на ветви, рассчитывать датировки и реконструировать вероятный гаплотип предка, который носит название базового гаплотипа ветви.
Все данные определения для этой статьи взяты из работы «КРИВИЧИ: ПЕРВОЕ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ», авторы её – члены московской Академии ДНК-генеалогии В.И. Меркулов, Е.В. Пайор, И.Л. Рожанский и В.Р. Хохряков. Эта статья в полном объёме опубликована в журнале «Исторический формат», № 2 за 2020 г. «Исторический формат» – это рецензируемый научный журнал, включенный в базу РИНЦ, главный редактор журнала к.и.н. В.И. Меркулов. В журнале публикуются результаты научных исследований российских и зарубежных учёных. Журнал является электронным периодическим изданием, доступным для свободного бесплатного скачивания).
От скифов и сарматов до ариев, от ариев до славян
СКИФЫ
Скифы (др. – греч. ??????,??????, самоназвание: Skolotoi)древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. – IV в. н. э. Скифы не имели письменности, из скифского языка известно более двух сотен слов, а также личные имена, топонимы и глоссы в античных и клинописных источниках.
(Википедия)
Скифы (скифы, скифов, ед. скиф, скифа, муж. (греч. skythoi):