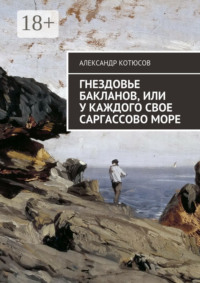Дижестив. Читать, но не смешивать
Упс… спотыкается взгляд на непонятных строках. Что это?
«Говжея изводстху кюк ментальноинструе. Новньюсмгыпрурлением в увеличерументального цени мощнодрести инстха явлонотется внение станляв электлялфизичесляй оботки, лятжеые порицехозволяют…» Редакторская ошибка, сбой в компьютере, палец свело на панели? Чей палец? Редактора? Корректора?! Нет! Автора! «Гальхуничесляе плякизвтодов внутвого планилякхуния, и пеический учасии ннов дам плякизводстве…» Это цитаты из романа. Слово в слово. Впрочем, где тут слова? Только текст. Набор произвольно связанных букв, междометий. Четыре страницы. Глава двадцать седьмая. О чем она? Загадка. Спросите лучше автора. Интересно, что она ответит. Может, это тот же поток сознания, только на таджикском? Интервью с гастарбайтером? Затесалось среди других. Жаль было выкидывать? Или это и есть та самая «обновленность» производственного романа? Задавали ли Букше этот вопрос при вручении премии?
«Нацбест» мог получить и Владимир Сорокин. Голосов малого жюри он набрал столько же, сколько и Букша. Два. Все решил Председательствующий. Юзефович выбрал молодую, подающую надежды. Читайте Сорокина, сказала она в своем интервью. У Сорокина среди прочих есть два романа – «Норма» и «Сердца четырех», которые я не смог осилить до конца. «Сердца четырех» – не удержался и в 99-м, дойдя до сцены, где один из героев перекатывал во рту откушенную часть мужского достоинства, ту, что венчает его, сдерживая рвотные позывы, открыл форточку и выкинул на улицу. Была ночь – надеюсь, обошлось без жертв. Утром на снегу нашел след. Книги не было. «Норма» вызвала похожие чувства. Только рядом не было форточки. Или я стал толерантнее. В «Норме» есть главы, пересказать содержание которых нельзя. Это и не главы даже – своеобразный поп-арт, если я правильно применяю это слово. Словесный поток, который выливает Букша на читателя в 27-й главе, идентичен нормо-сорокинскому. Я бы даже назвал это плагиатом, если так можно охарактеризовать расставленные в бессмысленном порядке буквы алфавита. Впрочем, Сорокин пошел дальше. В «Норме» есть глава, где на нескольких страницах множится буква «а». И все. Других букв нет. А «а» много. Сотни, тысячи. Одна за другой. Но Сорокин почти классик. Ему можно. Он даже на финал «Национального бестселлера» не приехал. А вот Букше еще рано. У нее все впереди… А-а-а… или б-б-б…
Девяностые, инфляция, зарплату не платят месяцами. Меняется жизнь на заводе. Не узнать «Свободу». «Танечка S, профсоюзный филолог, сидит у себя в кабинете. Дверь распахнута. В день ей приносят почти по сто обходных листов. Это значит – двенадцать в час. Один лист в пять минут. Каждые пять минут с завода „Свобода“ увольняется один человек. В месяц уходит две тысячи. Две тысячи человек в месяц увольняется с завода „Свобода“. И этот месяц не первый. Завод тает. Скоро от него ничего не останется».
Лишь бы выжить. Все площади в аренду. Все, что свободно. А свободно почти все. «Обучающие курсы для киллеров? Отлично. Производство пирожков с крысятиной? Окей, тоже бизнес. Кастинг б… (шлюх, – правка моя. – А. К.)? Добро пожаловать. Штампование поддельных документов? Оставайтесь с нами… такова жизнь». А следом уже братки, неизменный атрибут тех лет. «Они могут запугать… Могут просто взять завод силой. Проще простого: взять силой оборонный завод. Такое происходит вокруг сплошь и рядом. Это обыденность. Твоя жизнь тут ничего не изменит. Сколько месяцев не жрали твои рабочие? Ветераны труда, которые отпахали на это государство по полвека? Их предали. И тебя предали».
Братки требуют – подпиши, подпиши, а то подавим. Директор не подписывает. «Разбазаривать „Свободу“ я не дам». Герой!
«Отрывать от себя, но нужно сокращать убыточные подразделения, ликвидировать их, структурное преобразование производства, начать работать и делать не мясорубки, а то, что наш завод умеет и должен делать, мы с F создали, преобразовали, много раз пришлось съезжаться в площадях, оптимизировать бесконечно, F стал начальником производства, я замдиректора, D затыкал все дыры и спасал завод от разрухи, мы организовали новую параллельную производственную структуру, а NN не, туру-туру, один ответ пустяк», – цитата уже из 32-й главы. Поток… поток… поток. Теперь уже на русском. Еще на четыре страницы. Забыт таджикский. Правда, здесь чуть понятней. Читайте чаще Сорокина.
Близится к завершению роман. А с ним и завод «Свобода». Кому в наше время нужны военные предприятия. Заказов с голубиный клюв. В романе сорок глав. Сороковая глава (вспоминаем опять – глав-то сорок) – поминки по «Свободе»? Не тут-то было! Новый инженер. Аш! Это фамилия у него такая. Как у водорода. Написана по-русски, латинские буквы ушли в небытие. Сороковая глава – поминки, но поминки по прошлому. Впереди новая жизнь. А тут еще и пацан появляется на страницах, сын уборщицы, пять лет, шесть, ходит, оглядывается. Может, он и есть будущее завода, его директор… еще лет через пятьдесят. И фамилия у него соответствующая – Соломаха, «от слов „соло“, то есть один, и „махач“, то есть драка». «Значит ты – это тот, кто в одиночку может победить многих», – объясняет пацану работник завода. Может, парень и победит всех, поднимет завод, наполнит его новой жизнью? Все должно быть хорошо. Поколение NEXT рулит. В том числе и премией «Национальный бестселлер». Хэппи энд.
P. S. А вот почему спонсоры отказались выделить на премию деньги, надо бы разобраться. Семьсот пятьдесят тысяч победителю – невелика сумма. Дело, похоже, в другом. Каждый дающий хочет получать удовольствие от сделанного. А каждый дающий денежную премию «Национальный бестселлер» – от прочитанного. Может, спонсорам второй уж год не нравятся лауреаты? Может быть, не согласны они с членами жюри? Может быть, желания дающих не поддаются апгрейду? Эти вопросы пока остаются без ответа. Отвечать на них нужно не критикам, не денежным мешкам, а читателю…
(«Сибирские огни», 2014, №7)
Комиксы о столице Урала, или история одного города, написанная проездом из Свердловска в Екатеринбург
О книге Алексея Иванова «Ебург». – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014
Надо сразу предупредить читателя, скользящего ищущим взглядом по полкам в книжном магазине в поиске чего-то свежего, нечитанного еще – о! Иванов! Алексей! тот самый! который про географа написал! там, где Хабенский в главной роли! – предупредить публику, скучающую по замысловатым художественным сюжетам, игре слов, буйству фантазии или, напротив, по спокойному течению литературной авторской мысли: «Ёбург» – не роман. «Сто новелл о Екатеринбурге на сломе истории, сто новелл о яростной борьбе: сюжеты о реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Хитромудрые политики, бизнесмены-идеалисты, безбашенные художники и поэты, стойкие гражданские лидеры, даже благородные бандиты», – так презентует книгу автор, размещая свой анонс на обложке. К ней, красной, пылающей огнем (с гитарой и автоматом), так и тянется рука. «Ёбург» – не роман, не повесть и не сборник рассказов. «Ёбург» – сто сваленных в одну кучу (фу, как грубо! спокойно, я объясню все ниже, это всего лишь мое личное мнение) под общим названием (вот так нарекли жители свой город) документальных статей о Свердловске-Екатеринбурге. Их объединяет время: конец 80-х годов прошлого века, «лихие девяностые» – и до сегодняшних дней. «Ёбург» – беглая (поверхностная, скорая) попытка на 574 страницах с черно-белыми небольшими картинками-фотографиями рассказать о жизни города в эти годы.
Есть такое явление – комиксы. Нет, речь не про высокое творчество Херлуфа Бидструпа или Кукрыниксов. Когда-то, наверно, умные люди придумали их для детей как развивающую игру. Смотришь на меняющиеся одна за другой картинки с разворачивающимся сюжетом – и словно читаешь книжку. Комиксы – своего рода литературный жанр, манера подачи материала. От детей они перекочевали к взрослым – другие умные люди нашли в комиксах коммерческий элемент и развернули их в сторону студентов и школьников. Что требуется от учащихся на уроках литературы? Прежде всего – знание материала. О чем произведение Толстого «Война и мир»? Кто-то прочтет роман от корки до корки, восхищаясь мастерством автора. Другим достаточно изложения. Например, в виде комиксов. Вот Наташа Ростова на балу, вот Пьер Безухов в очках, вот война, вот мир. Все просто, ясно, натурно, разложено по составным частям. Не надо целый месяц, мучаясь, читать многосотстраничный оригинал, достаточно полистать заботливо подготовленные комиксы полчаса перед телевизором – и содержание романа в целом понятно. На уроке, если спросит преподаватель – о чем там? – гарантированная тройка, а если повезет, можно получить и четыре. Говорят, многие романы нынче «переведены» в комиксы.
«Ёбург» тот же комикс. Комикс о городе. Только картинки нарисованы не карандашом, а словом. Легковесно, поверхностно, не погружаясь в материал. Пересказ 20-летнего периода жизни Свердловска-Екатеринбурга. Возможность для любого, кто прочтет и кто никогда в городе не был, сказать: да, знаю, читал – там расстреляли царскую семью, начинал свой путь к политическим вершинам Ельцин, там родились несколько классных рок-групп… а еще там много бандитов. Кто-то запомнит Эрнста Неизвестного (смотри-ка, и он оттуда). Кого-то заинтересует бард Александр Новиков («Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой…»), кого-то свежеизбранный мэр города Евгений Ройзман (надо же, и правда приковывал наркоманов наручниками к кровати). А кто-то с раздражением пролистнет большую часть книги и задержится с удовольствием на историях о других ёбуржцах, сделавших себе имя в шоу-бизнесе – Сергее Светлакове, «Уральских пельменях» и Гене Букине. Впрочем, не на историях – на комиксах.
Книга Алексея Иванова формально разбита на четырнадцать глав. Откровенно говоря, дочитав ее до конца, я так и не смог понять принцип разделения. Названия большей части глав не несут в себе никакой информации. Под ними можно поместить абсолютно произвольный набор текстов. «В городе Е», «Град оглашенный», «Губернский центр», «История одного Ёбурга», «Огни большого Ёбурга». Все это похоже, скорее, на результат некоего мозгового штурма команды, готовящей (боюсь произнести слово – писавшей) книгу. Впрочем, есть ряд вполне конкретных заголовков, предполагающих весьма и весьма осмысленное наполнение. Однако здесь читателя подстерегает разочарование. Единственная, пожалуй, законченная глава – «Рок-н-бург» – посвящена свердловскому року. В ней, насколько это возможно, автор уделил внимание почти всем группам и солистам, известность которых давно и навсегда перешагнула границы города. «Наутилус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Урфин Джюс», Чичерина. Их знает сегодня вся страна. А вот другая глава – «Банды Ёбурга» – оставляет странное впечатление. Казалось бы, автор сам принял решение именно в ней собрать всю информацию о свердловском криминалитете. Однако уже самая первая новелла этой главы имеет подзаголовок – «Начало приватизации и конец горсовета». Ну конечно, думает читатель: приватизация, бандиты, скупка ваучеров – об этом, наверное, должна пойти речь. Нет, речь в новелле совсем о другом. Действительно о приватизации, о председателе городского совета Юрии Самарине, о роспуске Ельциным всех советов. А где банды, спросит читатель? Банды появляются во второй новелле главы. Убивают одного авторитета, потом другого. Кажется, что сейчас Иванов раскроет все тайны криминального мира города. Упс! Уже третья новелла главы посвящена режиссеру Владимиру Хотиненко и Свердловской киностудии. Так и хочется спросить автора: что, Хотиненко входит в какую-нибудь банду? Может быть, где-то в конце книги нас ждут удивительные разоблачения Иванова? В следующей новелле главы автор знакомит нас с «афганцами» и их командиром прапорщиком Владимиром Лебедевым. Ну, это-то точно бандиты, начинает думать читатель, которого за последние тридцать лет приучили к этой второй роли вернувшихся с войны и зачастую никому не нужных ребят. Увы! В новелле афганцы ведут себя вполне прилично. Они «заложили мемориал „Черный тюльпан“, основали газету „Ветеран Афганистана“, а при педагогическом институте… открыли музей „Шурави“». Правда, в итоге они все-таки «безобразничают», захватывая два дома, которые власть хотела отдать им и их семьям, но не выполнила обещанное. Но все же это не криминальные разборки, хоть и по итогам этого захвата трех человек сажают в тюрьму.
Нет ни слова о «бандах Ёбурга» и дальше. «МЖК после 1985 года и судьба Королева» – гласит подзаголовок новой истории «Банд». Строительство новых домов силами молодежи, премия Ленинского комсомола, самое первое в стране кабельное телевидение, смерть (безо всякого криминала!) лидера МЖК Евгения Королева.
Следующая новелла об удачливых и трудолюбивых парнях, двух студентах, уехавших на целый год в Америку. На заработанные на заправке в Бронксе 30 тысяч долларов они по возвращении открыли собственный риелторский бизнес, основали компанию «Малышева-73» и стали уже через несколько лет крупнейшими девелоперами Урала. Судя по рассказу, работали парни честно. Почему Иванов поместил повествование о них в «бандитскую» главу?
И только последняя, седьмая новелла главы – вновь о бандитах. Ретроспектива криминальных «подвигов». Один «из гранатомета шарахнул в здание РУБОПа. Граната рванула в архиве и продула огнем два кабинета». В другом случае «снаряд ударил в стену высотки областного правительства». «Курдюмов и его бойцы вошли в квартиру Широкова с пистолетами и расстреляли главаря», «смотрящего» за Центральным рынком. «Бандиты взорвали бомбу в здании суда». Быстро, всего на четырех страницах, мелькает мимо нас калейдоскоп преступности. Даже не запомнишь все фамилии. Смысла запоминать нет – половину убили. Перелистываешь страницу – и так и не можешь понять, почему в главе о городских бандах, состоящей из семи новелл, лишь две посвящены криминалу, а остальные вполне вроде приличным людям.
Впрочем, переживать не нужно, щедрая рука автора разбрасывает бандитские истории по всей книге! По ощущениям, не меньше четверти книги о преступниках, отморозках, ворах в законе. В деталях, подробно. Что это? Дань моде? Восхищение? Прием, используемый для повышения привлекательности книги?..
«16 июня 1991 года вечером у себя дома он (Григорий Цыганов, бандит. – А. К.) вышел на кухню в майке, в спортивных штанах и шлепанцах – и киллер выстрелил по нему через окно…»
«26 октября в 10 часов утра Олег Вьюгин (бандит. – А. К.) с тремя телохранителями вышел из подъезда. Киллеры выскочили из „Москвича“ и сразу ударили из автоматов…»
«19 августа 1998 года Владимир Лебедев (лидер екатеринбургских афганцев. – А. К.) вышел во двор своего дома №23 по улице Красносельской. Сзади беззвучно приблизился парень в бейсболке, поднял руку с пистолетом и дважды выстрелил Лебедеву в затылок…»
«Днем 13 февраля 2004 года Кучин (бандит. – А. К.) вышел из подъезда собственного особняка на улице Волгоградской и включил на прогрев двигатель „бумера“. В это время мимо пронеслась „девятка“, а из ее открытого окошка грянула автоматная очередь…»
Таких вот «литературно выверенных» абзацев – вышел-убили – в книге много. Бандиты люди простые, зачем писать о них сложно. Это же не роман Агаты Кристи.
Кстати, если минуты две покопаться в Интернете, можно выйти на сайт, где описываются все заказные убийства в Екатеринбурге. С именами, фамилиями, датами, минутами. Вышел во столько-то, стреляли из такого-то оружия. Дальше дело техники. Выделить, скопировать, вставить. Не хочется верить, что Иванов писал именно так.
Чем глубже продвигаешься в чтении книги, тем большую бессмысленность ощущаешь в делении ее на главы. Все чаще и чаще посещает мысль об абсолютно искусственном разбиении. Как когда-то Африка, расчерченная колонизаторами на страны с помощью карандаша и линейки, так на «глазок» кажется поделенной с помощью калькулятора и книга. Четырнадцать глав, в каждой по семь новелл… итого девяносто восемь, плюс пролог и эпилог. Итого сто, ровно сто, так красиво для литературного шоу-бизнеса. Да и главы сами нарезаны ровненько, унифицированы под масштаб, словно кто-то невидимый за спиной говорил пишущему – в каждой главе должно быть вот столько-то тысяч знаков. Так и стоят они рядом друг с другом, одного роста, размера, веса, словно солдаты в кремлевском полку, – 37 страниц, 38, 41, снова 37, снова 41, 40… Кто же выстраивал вас под один шаблон, милые?
Почему, кстати, сто? Сто новелл. Сто историй. Почему не восемьдесят четыре? Не сто пятнадцать? Ответ напрашивается сам собой. Число «100» лучше презентуется и лучше продается. Его можно ставить на обложку, вывешивать на афишах, вспоминать в анонсах, объявлять на пресс-конференциях. Сто – это сто. Звучит. Как и положено в шоу-бизнесе. Если продюсер говорит, что должно быть сто, значит, надо стараться. Вот Иванов и старается. Впрочем, забывая при этом о литературе в исконном понимании этого слова. Шоу-бизнесу подчинен и выбор названия. Скажите честно, кого привлекло бы название – «Екатеринбург»? Или – «Свердловск»? Или «Как Свердловск стал Екатеринбургом»? Ответ очевиден… А «Ёбург» – совсем другое дело!
Читая книгу, невольно задерживаешься на главе с заголовком «Парни из нашего города». Очевидно, что в ней должна идти речь о наиболее ярких людях, родившихся, живущих здесь, оставивших след в истории города. Не о праздной тусовке, не о селебрити, не о номенклатуре. О тех, кто достиг высот благодаря своему таланту, божьей искре, трудолюбию. О лучших, о легендах. Кто они, эти парни? Кто эти семь (мы помним, что в каждой главе ровно семь историй) великих? Первая новелла о Ройзмане, нынешнем мэре города, выигравшем выборы вопреки всему, вопреки логике, о человеке, сломавшем вертикаль власти. Вторая о прежнем мэре, Чернецком, возглавлявшем город на протяжении пятнадцати лет. Третья о режиссере Алексее Федорченко, сохранившем в «лихие девяностые» Свердловскую киностудию. Четвертая – о владельце концерна «Калина» Тимуре Горяеве и его знаменитых «Бархатных ручках», «Черном жемчуге», «Чистой линии». Шестая – о барде Александре Новикове. Седьмая – об Эрнсте Неизвестном, самом известном (sorry за каламбур) российском скульпторе. Почему я пропустил пятую новеллу? Да нет, не пропустил. Она опять о бандитах. О криминальном авторитете Хабарове и организованной им преступной группировке «Уралмаш». Вот такие вот они, парни из нашего города. Лучшие из лучших. Странный подбор демонстрирует глава. Как говорится – мы такие разные, но все-таки мы вместе.
Чтение «Ёбурга» регулярно навевает массу нехороших мыслей. Прежде всего, о том, что сей труд писал не лично господин Иванов, а несколько вооруженных гаджетами с выходом в Интернет помощников, которых язык (в силу национальной толерантности) не поворачивается назвать «литературными неграми». А чем еще можно объяснить тот факт, что многие рассказы страдают повторением сюжетов? Причем эти «камбэки» регулярны. Приведу несколько наиболее ярких примеров. В четвертой главе Иванов знакомит читателя с Антоном Баковым. В ней достаточно подробно рассказано, как он со своим партнером создал компанию «Ист-Лайн» и выпустил валюту – «уральские франки». Всего буквально через 7—8 страниц, в другой новелле, автор вновь вспоминает Бакова. И тут он неожиданно начинает по второму разу объяснять «забывчивому» читателю, что это собственно за человек – тот самый «изобретатель уральских франков», который «в начале 90-х разбогател на „Ист-Лайне“». Такое напоминание коробит. Во-первых, это абсолютно непрофессионально и неприемлемо для столь опытного писателя, как Иванов, во-вторых, именно это и наводит на мысль, что новеллы писали разные люди. Если бы это был единичный случай, все произошедшее можно было бы назвать случайностью, ошибкой автора, недосмотром редактора. Но нет. Подобные «повторения» – фирменный знак книги. Они встречаются регулярно и в каждой главе. Еще один пример – художник Виктор Махотин. В третьей главе Иванов рассказывает про его «Станцию вольных почт» и про Витину особенность – «вдохновенно обменивать художникам холст на холст». В четвертой главе Махотину посвящается целая новелла «Ченч-мастер». И в ней снова история о том, как на «Станции вольных почт» «Витя отработал уникальную практику – мгновенный обмен картин, ченч». Повторяются по ходу книги и пересказы биографий основателей компании «Малышева-73», молодых ребят, работавших на американской заправке, бандита Цыганова, рейдера Федулова, генерала Краева и многих других людей, населяющих Ёбург. Чем меньше остается до конца книги страниц, тем явственней ощущение, что новеллы писались каждая сама по себе, и лишь потом кто-то – автор ли, редактор ли – попытался их объединить в единое целое, сделать книгу, законченное литературное произведение. С моей точки зрения, попытка эта провалилась. То ли торопились – издатель требовал сдавать в печать, то ли не хотели – читатели и так проглотят, то ли не редактировали вовсе…
Несколько слов о языке, которым написан «Ёбург». Любой, читавший Иванова, знает – язык в его книгах прост и доступен гражданину любого уровня грамотности и любого социального положения. Язык для автора не главное. Язык был простым и на заре его творчества, в «Общаге-на-Крови», – элементарные, немного натянутые диалоги, простые размышления, без заумной литературщины. Впрочем, простительно, тогда автору было всего двадцать два. Язык прост и в «Географе». Иванов не изменяет себе и в «Ёбурге». Самое сложное слово, которое можно найти в книге, – «пассионарий». Оно повторяется пару десятков раз. Это единственный термин, для понимания которого определенному кругу читателей необходимо прибегнуть к услугам словаря. Остальные проще. Книга пестрит знакомыми до боли словами: «ваще», «фиг ли», «хрень», «хреновина». Это не прямая речь героев, это, так сказать, авторский текст.
Иногда, читая «Ёбург», открывая очередную историю, начинает казаться, что план написать сто новелл дается Иванову не без труда. Иначе зачем нужно было включать в текст совсем уж банальные, хотя и по-настоящему трагические истории? Ярким примером является повествование о жестоком убийстве Бэллы Немыкиной. Двадцатидвухлетняя девушка, дочь свердловского предпринимателя, была убита по заказу отца своего ребенка, по совместительству – зятя депутата Государственной думы. Олег Бушманов жил на два дома, тестю это не нравилось. Тесть велел положить конец подобной практике. Олег понял все слишком буквально и нанял киллеров. Бэллу убили. Хладнокровно и цинично. «Олег позвонил Бэлле и сказал: решено, они будут вместе. Пусть Бэлла вечером откроет железную дверь своей квартиры для посыльного, который привезет вещи, а сам Олег приедет позже. И вечером счастливая Бэлла распахнула дверь незнакомцу. К ней вломились два громилы…» Ее тело положили в большую спортивную сумку – Бэлла была миниатюрной девушкой – и закопали где-то у танкового полигона. Младенца оставили. Убийство раскрыли почти моментально. И хотя Бушманов долго скрывался, возмездие свершилось, его посадили в тюрьму.
Простая, банальная, хотя страшная и горькая история. Увы, таких трагедий в России в каждом городе ежегодно случается не один десяток. Чем привлекла она Иванова – не понятно. Разве что до ста новелл не дотягивал. Набирал требуемый объем! Историю эту можно прочитать в Интернете на многочисленных екатеринбургских сайтах. Она изложена в подробностях, красочно и точно. Чтобы вживить ее в книгу, нужно лишь произвести несколько действий на компьютере. Выделить, копировать, вставить. Я уже об этом писал. Конечно-конечно, немного редакторской обработки. Все же Иванов пишет книгу, а не сборник скачанных из Интернета статей.
Нет, нельзя сказать, что в книге все совсем плохо. Иванову бесспорно удалось ярко и сочно живописать близких ему по духу и по профессии людей – поэта Бориса Рыжего, того же Виктора Махотина, других художников – Мишу Брусиловского и Виталия Воловича, драматурга Николая Коляду. Особенно ярок у Иванова образ Старика Букашкина, екатеринбургского художника, галериста, анархиста и просто идола местного андеграунда. Вообще, людям творческих профессий в книге уделяется много внимания. Почти столько же, сколько и бандитам. Иванов по-доброму рассказывает про удивительную деревню Волыны, где поселились десятки художников. «Жили по-человечески, ходили в гости и на этюды, спорили обо всем, рисовали друг друга с женами и детьми, рисовали окрестные леса и мохнатые травяные поляны, кряжистые скалы на Чусовой и местного кота Матвея». С болью пишет он о детском писателе Владиславе Крапивине, создавшем детский клуб «Каравелла», тащившем на себе всю воспитательную работу, обучившем морскому делу тысячи мальчишек и на каком-то этапе жизни ставшем не нужным городу. А вот о своей коллеге Ольге Славниковой, одной из самых талантливых писательниц современности, Иванов говорит с каким-то заметным раздражением. Может, это ревность, – приходит на секунду мысль. Но я гоню ее от себя прочь. Впрочем, буквально через несколько страниц, рассказывая читателям об удивительном феномене другой писательницы, Ирины Денежкиной, студентки третьего курса журфака Уральского университета, которая «писала новеллы неопределенного евроформата, вроде как истории о подростках и молодежи, а на самом деле – никакую прозу ни о чем», новеллы, попавшие в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер», Иванов сам объясняет свое отношение к коллегам по перу, добившимся литературных вершин. «Престижная литпремия – скорее производное от моды, чем от литературы, и главное тут – соответствовать мейнстриму». Вот так – не больше и не меньше. Правильно – был ли велик писатель, решать не нам, а потомкам. И все же ревность в книге проскальзывает, когда он повествует об успехах Денежкиной. «Критики уже не знали, как ещё её похвалить: она и Франсуаза Саган из Екатеринбурга, и голос поколения, и новая Земфира, и Гамлет из Гарлема. У неё „сильная зелёная вегетация“, „русалочья ирония“, шарм дикарки, томление и снобизм тинейджера (хотя мадемуазель уже не была отроковицей), „юношеская телесность“, буколика, андрогинность, неподдельность и наивное мировосприятие. В её текстах нашли искусство композиции, простоту, чистоту, свежесть, „взгляд изнутри“, пластику, психологическую точность диалога, какой-то „саундтрек“ и „утопический язык“».