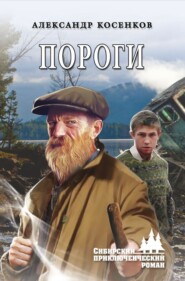По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Далеко от неба
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Над тайгой опрокинулось переполненное звездами небо. Наконец-то наступила ночь. То на одном, то на другом конце поселка, заводя друг друга, заполошно взлаивали собаки. Протрещал и захлебнулся за околицей мотоцикл. В домах, где еще не спали, телевизоры дружно сотрясались от очередного полицейского сериала: звучали выстрелы, кто-то истошно вопил, что-то взрывалось, выли сирены…
В летнике, во дворе у Зарубина, все еще горел свет. Отец Андрей, стоя в углу, беззвучно читал молитву и изредка крестился на небольшую привезенную с собой икону. Олег сидел за столом и что-то старательно срисовывал из большого альбома по древнерусской иконописи. Дверь летника была широко раскрыта в огород.
Олег то и дело поглядывал на спину молящегося отца Андрея и заметно томился необходимостью молчать. Наконец отец Андрей перекрестился с поклоном в последний раз и устало опустился на стоявшую рядом койку.
– Вы как хотите, Олег, а я на покой. Устал до полного отупения. Вам, я вижу, не терпится разговор наш продолжить, но вы уж простите меня, грешного, – не в состоянии.
– Без проблем, отец Андрей. Одна дорога чего стоит. Я когда сюда добирался, думал – все, не выбраться мне теперь отсюда до конца дней моих.
Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Я сейчас закругляюсь и тоже на боковую.
Отец Андрей снял рясу, аккуратно повесил её на спинку кровати. Олег отложил в сторону свой рисунок.
– Буду лежать и размышлять, как вы меня сегодня «приложили». Можно сказать, со всего размаху. Я уже хотел манатки собирать.
Отец Андрей, снявший штаны и собравшийся было нырнуть под одеяло, замер.
– Надеюсь, раздумали?
– Со своей точки зрения, вы, конечно, безусловно и стопроцентно. Только здесь сейчас не доброта нужна.
– Доброта нужна всегда.
– А вот увидите и поймете.
Послышались чьи-то тяжелые шаги. Олег испуганно посмотрел на раскрытую дверь. Сначала в дверях появился Кармак, затем вошел Зарубин. В одной руке он держал бутылку и три стакана, в другой – охотничье ружье и патронташ.
– Что, уже? – тихо спросил Олег и оглянулся на отца Андрея.
– Не уже, а уже, – невразумительно ответил Зарубин, сел за стол и разлил вино по стаканам. – Вино настоящее, не крепленое, друзья из Абхазии с оказией прислали. Ощущаете запах? Хмель никакой, а сны будут сниться веселые и светлые. Так создатели этого вина говорят. Мне, правда, все равно не помогает – ни хмеля, ни светлых снов. Но аромат вкушаю сполна. Запахи, говорят, самый лучший стимулятор воспоминаний. А хорошими воспоминаниями надо дорожить.
Вообще-то, я к вам по делу. Вино – это так, для контраста с реальной действительностью. Ну… Пить не неволю, а пригубить советую.
– Если действительно сны светлые обещаете… – улыбнулся отец Андрей.
Олег с торопливой готовностью передал ему стакан с вином.
– На хорошее не загадываю, о плохом думать не хочу, – сказал Зарубин, поднимая стакан.
Злобное рычание Кармака задержало поднесенные к губам стаканы. Все, как по команде, оглянулись на дверь, открытую в ночь. Пес поднялся, готовый кинуться в темноту, но Зарубин придержал его за ошейник: – Сидеть!
Олег сорвал с гвоздя ружье, переломил, проверяя, на месте ли патроны, снял с предохранителя и поставил рядом под руку, у стены.
Кто-то шел к ним через ночную темноту огорода. Сначала в полосе света обозначилось белое пятно рубахи, через несколько секунд на пороге остановился Василий.
– Здорово, – сказал он, пытаясь улыбнуться.
Был он крепко на взводе, но смотрел с пронзительной пристальностью человека, твердо знающего, что он сделает в следующую минуту.
– Заходи, – не сразу отозвался Зарубин и погладил заворчавшего Кармака.
– Хороший кобель, – сказал Василий. – А у меня Гамма. Была. Такая сучонка умная, по глазам все понимала. Мать говорит, отравили. Выместили сволочи! Собака-то в чем виноватая?
Василий вошел и тяжело сел на кровать рядом с отцом Андреем.
– Угощаете или через одного? – спросил он.
Зарубин протянул свой стакан Василию.
– Перебора не будет?
– Мой перебор до завтрашнего утра. Развязал маленько, чтобы от вольной жизни сразу не задохнуться. Что, другого стакана, что ль, нет?
– А я из горла, – серьезно отозвался Зарубин. – На правах хозяина. Насчет вольной жизни – согласен. Её сейчас лучше мелкими глотками потреблять.
– Осторожно или поменьше? – заинтересовался Василий.
– И осторожно, и поменьше. Чтобы не захлебнуться большими возможностями.
– Точно, возможностей сейчас по горло, – Василий одним глотком выпил вино. – Несерьезный напиток, – сказал он, посмотрев на дно стакана. – Баловство. Церковное? – спросил он у отца Андрея.
– Самое что ни на есть мирское, – улыбнувшись, сказал тот и сделал глоток, пробуя.
– Действительно – аромат.
– Ароматов у них там хватает, – сказал Василий, поглядев на бутылку. – Не знаешь, то ли нюхать, то ли блевать бежать. Особенно, когда фугас метрах в пяти и кишки на деревьях.
– Все у тебя? – тихо спросил Зарубин.
– Начать и кончить, – сказал Василий неожиданно трезвым голосом. – Поговорить надо.
– Надо, – согласился Зарубин. – Даже очень. Только в абсолютно трезвом виде.
– Это у меня камуфляж… – Василий правой рукой очертил свою фигуру. – Для тех, кто меня на халяву взять рассчитывает. Насчет соображать – в полном порядке, не сомневайся. Так, расслабился слегка… Причин много.
– У меня их тоже не меньше. И тоже сейчас не в форме. Поэтому говорить будем поутрянке, без соплей и перегара. На полном серьезе. От этого разговора у нас с тобой вся дальнейшая жизнь обозначится.
Желваки на скулах Василия закаменели. Он долго молчал, сжимая и разжимая кулаки, наконец выдавил: – Не держал бы я тебя, Роман Викентьевич, за настоящего мужика, другой бы разговор у нас получился. За мать большая тебе благодарность. Пойду… – Он встал. – Только один вопросик все равно имеется. Чтобы душа в норму, а то заснуть не смогу… Кричали, говорят, вы с Иваном друг на друга. В последний раз когда… Чтобы Иван закричал на кого, много надо было. Очень много.
– Был у нас разговор, – помолчав, сказал Зарубин. – Можно считать, действительно последний. Только безо всякого крика. Карту он у меня на Дальний участок просил. Вертолет не глушили, слышно плохо, со стороны могло показаться, что кричали. Как я соображаю, тебе такую полуправдивую информацию со смыслом подсунули.
– Дал?
– Карту? Нет.
– Пожалел, что ль?
Над тайгой опрокинулось переполненное звездами небо. Наконец-то наступила ночь. То на одном, то на другом конце поселка, заводя друг друга, заполошно взлаивали собаки. Протрещал и захлебнулся за околицей мотоцикл. В домах, где еще не спали, телевизоры дружно сотрясались от очередного полицейского сериала: звучали выстрелы, кто-то истошно вопил, что-то взрывалось, выли сирены…
В летнике, во дворе у Зарубина, все еще горел свет. Отец Андрей, стоя в углу, беззвучно читал молитву и изредка крестился на небольшую привезенную с собой икону. Олег сидел за столом и что-то старательно срисовывал из большого альбома по древнерусской иконописи. Дверь летника была широко раскрыта в огород.
Олег то и дело поглядывал на спину молящегося отца Андрея и заметно томился необходимостью молчать. Наконец отец Андрей перекрестился с поклоном в последний раз и устало опустился на стоявшую рядом койку.
– Вы как хотите, Олег, а я на покой. Устал до полного отупения. Вам, я вижу, не терпится разговор наш продолжить, но вы уж простите меня, грешного, – не в состоянии.
– Без проблем, отец Андрей. Одна дорога чего стоит. Я когда сюда добирался, думал – все, не выбраться мне теперь отсюда до конца дней моих.
Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Я сейчас закругляюсь и тоже на боковую.
Отец Андрей снял рясу, аккуратно повесил её на спинку кровати. Олег отложил в сторону свой рисунок.
– Буду лежать и размышлять, как вы меня сегодня «приложили». Можно сказать, со всего размаху. Я уже хотел манатки собирать.
Отец Андрей, снявший штаны и собравшийся было нырнуть под одеяло, замер.
– Надеюсь, раздумали?
– Со своей точки зрения, вы, конечно, безусловно и стопроцентно. Только здесь сейчас не доброта нужна.
– Доброта нужна всегда.
– А вот увидите и поймете.
Послышались чьи-то тяжелые шаги. Олег испуганно посмотрел на раскрытую дверь. Сначала в дверях появился Кармак, затем вошел Зарубин. В одной руке он держал бутылку и три стакана, в другой – охотничье ружье и патронташ.
– Что, уже? – тихо спросил Олег и оглянулся на отца Андрея.
– Не уже, а уже, – невразумительно ответил Зарубин, сел за стол и разлил вино по стаканам. – Вино настоящее, не крепленое, друзья из Абхазии с оказией прислали. Ощущаете запах? Хмель никакой, а сны будут сниться веселые и светлые. Так создатели этого вина говорят. Мне, правда, все равно не помогает – ни хмеля, ни светлых снов. Но аромат вкушаю сполна. Запахи, говорят, самый лучший стимулятор воспоминаний. А хорошими воспоминаниями надо дорожить.
Вообще-то, я к вам по делу. Вино – это так, для контраста с реальной действительностью. Ну… Пить не неволю, а пригубить советую.
– Если действительно сны светлые обещаете… – улыбнулся отец Андрей.
Олег с торопливой готовностью передал ему стакан с вином.
– На хорошее не загадываю, о плохом думать не хочу, – сказал Зарубин, поднимая стакан.
Злобное рычание Кармака задержало поднесенные к губам стаканы. Все, как по команде, оглянулись на дверь, открытую в ночь. Пес поднялся, готовый кинуться в темноту, но Зарубин придержал его за ошейник: – Сидеть!
Олег сорвал с гвоздя ружье, переломил, проверяя, на месте ли патроны, снял с предохранителя и поставил рядом под руку, у стены.
Кто-то шел к ним через ночную темноту огорода. Сначала в полосе света обозначилось белое пятно рубахи, через несколько секунд на пороге остановился Василий.
– Здорово, – сказал он, пытаясь улыбнуться.
Был он крепко на взводе, но смотрел с пронзительной пристальностью человека, твердо знающего, что он сделает в следующую минуту.
– Заходи, – не сразу отозвался Зарубин и погладил заворчавшего Кармака.
– Хороший кобель, – сказал Василий. – А у меня Гамма. Была. Такая сучонка умная, по глазам все понимала. Мать говорит, отравили. Выместили сволочи! Собака-то в чем виноватая?
Василий вошел и тяжело сел на кровать рядом с отцом Андреем.
– Угощаете или через одного? – спросил он.
Зарубин протянул свой стакан Василию.
– Перебора не будет?
– Мой перебор до завтрашнего утра. Развязал маленько, чтобы от вольной жизни сразу не задохнуться. Что, другого стакана, что ль, нет?
– А я из горла, – серьезно отозвался Зарубин. – На правах хозяина. Насчет вольной жизни – согласен. Её сейчас лучше мелкими глотками потреблять.
– Осторожно или поменьше? – заинтересовался Василий.
– И осторожно, и поменьше. Чтобы не захлебнуться большими возможностями.
– Точно, возможностей сейчас по горло, – Василий одним глотком выпил вино. – Несерьезный напиток, – сказал он, посмотрев на дно стакана. – Баловство. Церковное? – спросил он у отца Андрея.
– Самое что ни на есть мирское, – улыбнувшись, сказал тот и сделал глоток, пробуя.
– Действительно – аромат.
– Ароматов у них там хватает, – сказал Василий, поглядев на бутылку. – Не знаешь, то ли нюхать, то ли блевать бежать. Особенно, когда фугас метрах в пяти и кишки на деревьях.
– Все у тебя? – тихо спросил Зарубин.
– Начать и кончить, – сказал Василий неожиданно трезвым голосом. – Поговорить надо.
– Надо, – согласился Зарубин. – Даже очень. Только в абсолютно трезвом виде.
– Это у меня камуфляж… – Василий правой рукой очертил свою фигуру. – Для тех, кто меня на халяву взять рассчитывает. Насчет соображать – в полном порядке, не сомневайся. Так, расслабился слегка… Причин много.
– У меня их тоже не меньше. И тоже сейчас не в форме. Поэтому говорить будем поутрянке, без соплей и перегара. На полном серьезе. От этого разговора у нас с тобой вся дальнейшая жизнь обозначится.
Желваки на скулах Василия закаменели. Он долго молчал, сжимая и разжимая кулаки, наконец выдавил: – Не держал бы я тебя, Роман Викентьевич, за настоящего мужика, другой бы разговор у нас получился. За мать большая тебе благодарность. Пойду… – Он встал. – Только один вопросик все равно имеется. Чтобы душа в норму, а то заснуть не смогу… Кричали, говорят, вы с Иваном друг на друга. В последний раз когда… Чтобы Иван закричал на кого, много надо было. Очень много.
– Был у нас разговор, – помолчав, сказал Зарубин. – Можно считать, действительно последний. Только безо всякого крика. Карту он у меня на Дальний участок просил. Вертолет не глушили, слышно плохо, со стороны могло показаться, что кричали. Как я соображаю, тебе такую полуправдивую информацию со смыслом подсунули.
– Дал?
– Карту? Нет.
– Пожалел, что ль?