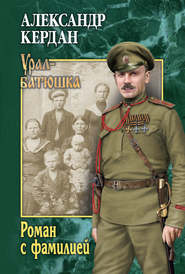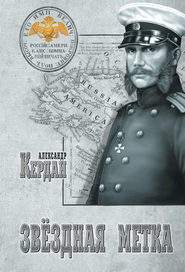По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крест командора
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В канцелярии в столь ранний час было тихо. Дементьев миновал большое помещение, в котором обычно сидели канцеляристы и их помощники, и подошёл к комнате Хрущова. Стукнул в дверь и, не дождавшись ответа, распахнул её. Секретарь был уже на месте. Он неторопливо перебирал на своём столе какие-то бумаги, как будто и не покидал присутствия. Огромный, времён прежних двух царствований, парик, припорошенный рисовой пудрой, висел за ним на спинке резного кресла, больше похожего на трон.
Дементьев негромко кашлянул.
Хрущов тут же вскинул лысую, угловатую голову:
– А, Авраам Михайлович! Здравствуй, здравствуй, голубчик!
Он широко, по обыкновению, улыбался, но взгляд его нынче показался Дементьеву колючим.
– Явился, ваше высокоблагородие, по вашему зову… – громко доложил он.
– Ишь ты, какой служака вырос, отец погордился бы… – добродушно сказал Хрущов и снова зарылся в бумаги. Спустя какое-то время, словно вспомнив о Дементьеве, предложил: – Да ты присядь, голубчик Авраам Михайлович. В ногах правды нет.
Дементьев присел на один из массивных стульев у стены и стал терпеливо ждать, поглядывая время от времени то на Хрущова, то на свой грязный ботфорт, всё больше недоумевая, зачем его подняли в этакую рань.
А Хрущов, словно нарочно, заговорил о другом.
– Погляди, Авраам Михайлович, сколько челобитных, ябедных и поносных писем с новой почтой пришло. И всё самому, голубчик, самому приходится разбирать. Не на кого положиться. Все у нас – рысаки, а возовик один. Наш серко кряхтит да тянет… И-го-го! – и впрямь по-конски заржал он, зыркнул на Дементьева по-молодому синим глазом. – А ежели выдохнусь? А ежели меня лихоманка возьмёт до времени? Кто сии дерзкие письмена читать станет? Послушай, голубчик, что токмо пишут! Вот из Соловецкого монастыря безымянный лаятель с оказией прислал.
Хрущов взял из кипы на столе помятый лист и с невыразимой скорбью на лице прочёл:
– «Надысь во дворе монастыря иеродьякон Самуил Ломиковский, вышед из нужника, держал в дланях две картки, помаранные гноем человеческим, и сказал при этом, что за эти де письма кому-нибудь лихо будет. Тут же возгласил сей Самуил, что на картках написан титул Ея императорского величества и Ея величества фамилии, а подтирался, дескать, теми картками старый недруг иеродьякона иеромонах Лаврентий Петров. А ещё де Петров говаривал, что не токмо он, но и государыня де на престоле серет…». Каково? – спросил Хрущов обмершего Дементьева, прищурившись. В глазах у секретаря запрыгали чертята.
Дементьев не нашёлся, что ответить.
Хрущов как будто ответа и не ожидал. Начал безо всякой связи с предыдущим:
– Я ведь уважал батюшку твоего, Михайлу Арсентьевича, и более того скажу, любил, как родного. Ради светлой его памяти и тебя на службу определил… И тут помогал, незаметно, само собой разумеется… А ты, Авраша, как думал, сам за два годика такого чина добился? Одним собственным прилежанием? И губернским секретарём стал, и шпагу нацепил? Думаешь, в твои-то лета безо всякого родства, благодаря твоим талантам сие возможно? Эх, голубчик… – он усмехнулся, но тут же сделался серьёзным: – Не бывало вовеки такого в Рассее-матушке и впредь, поверь мне, до-олго-онько ещё не будет. Везде родство нужно, а ежели оного нет, так радетель какой-никакой. Вот я, к примеру… Почему? Объясню тебе, голубчик. Способных людишек у нас в Отечестве хоть пруд пруди, а мест для кормления – раз-два и обчёлся. И каждый, заметь, каждый, кто в силах, норовит на оное место своего человечка поставить! – Хрущов поднял указательный палец вверх и умолк. Он долго глядел на Дементьева, переменившегося в лице, прежде чем совсем уже миролюбиво заключил: – Да ты не дуйся на меня, старика, как мышь на крупу. Я ведь обидеть-то тебя, Авраам Михайлович, намерения не имею. Зачем мне сие? Однако остеречь хочу, чтобы ты ошибочки не совершил…
Он замолчал и принялся опять перелистывать бумаги.
Дементьев не выдержал затянувшейся паузы.
– Я, поверьте, за всё сердечно вам благодарен, ваше высокоблагородие, но одного не пойму, какой ошибки мне остерегаться? – спросил, поднимаясь со стула.
– Вот, сей вопрос уже по делу, – как будто даже обрадовался Хрущов и, вперившись в Дементьева, сказал со значением: – Сам… пожелал тебя видеть. Аудиенция тебе, голубчик, назначена.
– Когда?
– Да вот сейчас и пойдёшь…
У Дементьева дух перехватило. Титула «сам» удостаивал Хрущов только одного человека – начальника Тайной канцелярии, генерала и сенатора Андрея Ивановича Ушакова. И хотя штат их департамента был небольшим – и полутора десятков человек не наберётся, дистанция от чиновника для особых поручений до начальника тайного ведомства была просто неизмеримой. «Сам» вёл все дела только с Альбертом и с Хрущовым. Дементьеву встречаться с Ушаковым с глазу на глаз ещё не доводилось. Чиновников его ранга начальник как будто и не замечал.
– По какой нужде? – едва выдавил Дементьев. Ноги стали ватными, и он снова опустился на стул.
– Э, да ты побледнел никак, голубчик! Ну-ну, не рви сердце. Это будет просто добрая беседа. Да-да, просто беседа. Но она может благоприятно сказаться на всей твоей планиде. И запомни, их превосходительство обратили на тебя свой взор исключительно по моей рекомендации. Гляди же, Авраам Михайлович, голубчик мой, не подведи. Не сделай ошибочки, коли «сам» тебе что-либо предлагать станет. Не любят оне непонятливых, – узкие губы Хрущова снова растянулись в некое подобие улыбки. – Знаешь, где апартаменты их превосходительства?
Дементьев судорожно сглотнул.
– Тогда не мешкай, голубчик, ступай, ступай! – распорядился Хрущов и с видом человека, занимающегося самым приятным делом, снова погрузился в чтение доносов.
3
Андрей Иванович Ушаков после бессонной ночи в пыточном каземате вздремнул ненадолго уже под утро. Он прикорнул прямо в апартаментах, опустив тяжёлую голову на просторный дубовый стол.
Приснилось ему, будто снова очутился в родном Новгородском уезде в Бежецкой пятине, снова молод и беден. Будто спят они с братьями вповалку на полатях, а единственный их холоп Аноха, по прозвищу «праведник», принёс под дверь барской избы сшитый им из последнего куска холстины балахон и сплетённые из семи лык лапти-семерички – одну пару на пятерых. Надо как-то поскорее проснуться, чтобы эти немыслимые богатства ему, Андрею, достались, а то ведь не в чем в праздник Христов к обедне пойти…
Страх, похожий на удушье, навалился на него, а вдруг вперёд поднимутся братья: Иван, Поликарп, Роман, Иеремей… Вдруг не ему, а кому-то из них достанутся лапти и балахон…
Вскинул Андрей Иванович свою крупную, словно топором вырубленную, голову, усилием воли разомкнул непослушные веки и долго безумно таращился на увешанную шпалерами стену апартаментов, не в состоянии понять, где находится, что с ним…
Опамятовшись, не смог удержать восклицание:
– Приблазнится же такое, ай, детина! Скока годков прошло? Почитай поболе сорока, а всё полынь горькая мерещится!
Он потёр здоровенной, мужицкой пятернёй лоб, помотал головой, точно скидывая наваждение. Поправил сбившийся набок модный алонсовый парик.
Да, теперь даже представить трудно, что всё это с ним было. Было на самом деле. И ранняя смерть отца Ивана Алферьевича, представителя древнего княжеского рода, берущего начало от Касожского Редеди, да обедневшего вконец. И нищенское сиротство, когда приходилось хаживать с крестьянскими девками в лес по грибы да ягоды, чтоб с голоду не помереть.
Слава Богу, силушкой и проворством природа сызмальства не обидела. Тринадцати годков от роду он телегу вместе с лошадью один из болота вытягивал. Мог на спор на руках перенести здоровущую девку через огромную лужу. Девки любили его, что и говорить, любили! Тогда же, в тринадцать лет, он и плотские утехи впервые познал, с соседскими крепостными молодайками, которые его иначе как «Ай, детина!» и не кликали. И прозвище сие не от одного громадного роста происходило, а оттого, что умел он девкам угодить…
С тех давних лет и прицепилась к нему эта присловица, поначалу вызывавшая смех у окружающих.
Правда, соседям-помещикам, чьих крестьянок он пользовал за неимением своих собственных, вскоре стало не до шуток.
– Этак скоро в наших деревнях одни Ушаковы бегать будут… – злобствовали они на сластолюбивого соседского отпрыска и вздохнули с облегчением, лишь когда в 1704 году записался Андрей солдатом в Преображенский полк.
– Вот это левиафан! – воскликнул царь Пётр, увидав нового рекрута. Встал рядом, глянул прямо в глаза очами совиными. – А слабо тебе со мной силой померяться?
– Отчего ж слабо, государь? – не сробел Ушаков и глаз не отвёл.
Он не только в состязании по загибанию рук не уступил могучему царю, но и так же завязал узлом железную кочергу, заставив Петра Алексеевича восторгнуться:
– Ну, удалец, как бишь тебя…
– Ушаков, государь.
– Служи, Ушаков! Я тебя запомнил…
Ушаков и служил. За четыре года из рядового стал капитан-поручиком. В 1708 году в этом чине был приставлен наблюдать за пленными шведами. Тут и заметил Пётр Алексеевич в Ушакове склонность к секретной службе. Сделал Ушакова своим адъютантом и капитаном гвардии, стал посылать его с различными тайными поручениями: то в Польшу для надзора за армейскими офицерами, то в Москву для истребления злоупотреблений среди купечества, то в Нижний Новгород для розыска порубленного казённого леса. По воле государя Ушаков смотрел за корабельными работами и Адмиралтейством, за недоимками и за казнокрадами… В день победы над шведами был пожалован генерал-майором, а в 1724 году стал сенатором.
И всё же главным делом стала для него Тайная розыскных дел канцелярия, где сумел он раскрыть все свои таланты и способности.
Не без основания считается, что сластолюбие и садизм – одного корня. Как некогда самозабвенно отдавался Ушаков любовным утехам, так впоследствии со страстью и самоотверженностью исполнял возложенные на него обязанности по розыску и устранению тайных врагов. И не то чтобы нравилось ему наблюдать за муками оказавшихся в его власти. Ушакову в этом далеко до его предшественника – начальника Преображенского приказа князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского. Вот кто был сущий изверг, настоящий заплечных дел мастер. У него даже присказка была, мол, всегда в кровях омываемся.
Себя же почитал Ушаков просто истинным ревнителем государства Российского, оком государевым и опорой монархии. Он любил повторять:
– Я с малолетства промышляю едино государевым делом – служу царю.