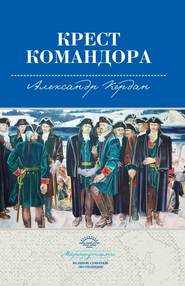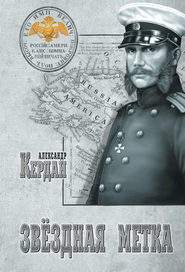По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман с фамилией
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Придя в себя, он первым делом приказал Агриппе вернуть его императорский перстень…
А ещё через несколько дней, когда угроза жизни Августа вовсе миновала и он начал вставать с постели, всем невольным гостям домуса позволили покинуть его.
На улице я, как будто впервые, увидел небосвод – голубой и яркий, вдохнул всей грудью свежий ветер, порадовался ласковому шелесту листвы на серебристых тополях.
Меня окликнул Тит – мой давний знакомый, переписчик из римского зала библиотеки Поллиона. В дни, когда я вёл уроки, он обычно помогал Агазону.
– Слава богам, ты наконец объявился… Уже третий день караулю тебя и прошу вызвать… А эти солдафоны, – он кивнул в сторону преторианцев, стоящих на часах с каменными лицами, – всё время отказывают…
– А что случилось? – Его тревога передалось мне.
– Старый Агазон очень плох. Несколько дней не встаёт со своего ложа, отказывается от еды и питья, бредит и клянёт всех богов… А когда приходит в себя, всё повторяет твоё имя, зовёт, боится, что не успеет проститься навеки…
2
Агазон прощался со мной «навеки» уже в который раз. Случалось это тогда, когда старый грек выпивал лишнего.
Надо сказать, что в последнее время он стал ярым поклонником идей Эпикура. Однако из обширного философского наследия своего земляка, включающего и учение о природе, и канонику, и этику, культивировал любовь к уединению и к питию…
Следуя этому принципу, пил он всегда в одиночку, употребляя вина без разбору: дешёвое ретийское и дорогое цекубское, редкое для здешних мест масикское и популярное среди римлян фалернское. Не отвергал и слегка горчащее иберийское, привезённое из солнечной Испании, и кисловатые на вкус вина с севера. Если же он чему-то и отдавал хоть какое-то предпочтение, так это греческим винам: белому косскому, за целебные качества называемому «эскулаповым», и нежному на вкус линдскому с острова Родос. Но и тут говорить о пристрастии не совсем верно – выпивал Агазон столько, что вряд ли мог разобрать вкус и цвет того, что поэты воспевают как забродивший сок янтарной лозы.
В первый раз, узнав, что мой старший друг и наставник находится при смерти, я помчался к нему со всех ног. Я бежал с такой скоростью, что обогнал бы, наверное, знаменитых олимпийцев.
Запыхавшись, примчался в библиотеку и сразу прошёл в его «закуток» – небольшую комнату, примыкающую к дальней стене греческого зала и служившую Агазону жильём.
В стеснённом воздухе замкнутого пространства витали винные пары, такие густые и тяжёлые, что мне стало дурно. Я распахнул окно и огляделся.
В комнате царил жуткий кавардак. На трёхногом столике подле кровати стояли пара пустых кувшинов, глиняная кружка с вином, рядом лежали несколько маслин, корка ржаного хлеба и надкусанное яблоко. Ещё два опустошённых сосуда валялись на полу среди груды брошенных тут же одежд.
Агазон, явно навеселе, безмятежно возлежал на узкой кровати в углу.
– А-а-а, пришёл… – увидев меня, заплетающимся языком пробормотал он и тут же выдал цитату из своего любезного Эпикура: – Всегда работай, юноша! Всегда! Л-люби работу и веселье! Не жди от людей благодарности и не огорчайся, когда тебя не благодарят… Предпочитай наставление вместо ненависти, а улыбку вместо презрения… Из колючей крапивы извлекай нитки, из горькой полыни – лекарство… Нагибайся только затем, чтоб поднять павших… Зап-помни: ум выше самолюбия. Спрашивай себя каждый вечер, что сделал ты хорошего. Вещами не дорожи. Вещи – пр-рах! Имей перед собой книгу, цветок в саду и амфору с вином в погребе…
Он начал жаловаться на свои болезни, вдруг сбившие его с ног, на внезапную слабость, слепоту и глухоту, предлагал мне попробовать вина и обиделся, когда я отверг это предложение…
Когда он протрезвел, я спросил:
– Зачем ты губишь себя, учитель?
Он даже не заметил столь почтительного обращения и сердито пробубнил:
– Ты ничего не понимаешь… У старости есть одно непреложное право – не стыдиться потакать своим слабостям, ибо завтра этой возможности у неё может и не быть вовсе…
– А как же быть с рассуждениями о свободе, которую даёт нам победа над страстями и привязанностями?
Он коротко и хрипло хохотнул и произнёс без тени всякого смущения:
– Ты забываешь ещё об одной привилегии моего возраста – не помнить даже то, что говорил накануне… Давай-ка лучше прямо сейчас простимся с тобой, юноша! – Он по-прежнему именовал меня так же, как в день нашего знакомства. – Простимся навеки! Ведь даже Зевс-громовержец не знает: удастся ли нам сделать это завтра… – И заключил меня в свои сухие объятия: – А теперь послушай, что надлежит тебе сделать в день, когда я отойду к праотцам…
Так мы с ним прощались за разом раз, и всегда навсегда. Я терпеливо выслушивал одни и те же указания, которые должен исполнить после его кончины. Суть их сводилась к немногому: какие его рукописи мне надлежало взять себе, кому раздать его нехитрые пожитки, как именно проводить его в последний путь…
Признаюсь честно, при всём уважении к Агазону эти пьяные и похмельные прощания изрядно надоели мне. Мне казалось, что Агазон просто издевается надо мной, шутит, как тот мальчик-пастух из легенды, который всё кричал про волка, ворующего овцу, когда никакого волка и в помине не было.
В конце концов я рассердился не на шутку:
– Однажды ты умрёшь по-настоящему, а я возьму и не поверю в твою смерть!
…Всё это припомнилось мне, пока мы с Титом скорым шагом шли к библиотеке Поллиона.
Агазон лежал на кровати в своей комнате.
Но одного взгляда хватило мне, чтобы понять: на этот раз всё происходящее уже не плод его фантазии и совсем не шутка: богиня смерти прекрасная Либитина уже присела на краешек его ложа и своим тёмным, прозрачным покрывалом провела по его челу… Щёки и без того худого Агазона ввалились, лицо приобрело землистый оттенок, а под глазами проступили тёмно-синие полукружья.
Он был абсолютно трезв и серьёзен.
– Ты долго шёл, юноша… Я мог и не дождаться тебя… ноги стынут… – посетовал он вместо приветствия.
Говорил Агазон медленно, отделяя слова, одно от другого, чувствовалось, что они даются ему с трудом.
Я присел на ложе и взял его холодеющую руку.
– Жизнь прошла… А для чего? Всё бессмысленно… – тяжело вздохнул он.
– Вы не правы, учитель. А ваши знания, ваши мысли, ваши рукописи…
– Люди глупы… Они живут бессмысленными надеждами, живут, полагая, что однажды достигнут своей цели… Они не понимают главного: никакая цель не имеет значения… Важно только движение к ней…
Он закрыл глаза и надолго замолчал. Потом еле слышно произнёс:
– Под подушкой… возьми… это тебе, юноша…
Я послушно извлёк жёлтый свиток, туго перевязанный алой бечевой, и отложил в сторону.
Агазон, собрав последние силы, чуть слышно пролепетал:
– Прощай, юноша… Помни меня… А я там, куда иду, тебя не забуду… Никогда…
Он снова закрыл глаза. Дыхание его пресеклось, а когда возобновилось, стало вырываться из груди всё реже и реже, пока совсем не угасло. Мышцы его ещё мгновение назад живого лица расслабились, придавая лику Агазона некую завершённость. Именно такими бывают лики у статуй героев и богов. И вместе с отстранённостью и величием проступило в нём что-то неуловимо детское, безмятежное…
Я поднёс к губам Агазона бронзовое зеркало. Оно осталось чистым, незамутнённым…
Слёзы сами собой покатились по моим щекам. Я заплакал навзрыд и не стыдился своих слёз. Умер мой единственный друг, мой учитель, мой второй отец… И я оплакивал его так горько, как будто отдавая долг всем тем, кого не смог оплакать прежде: своим родным и наставникам, погибшим от рук наёмников Фраата, моим боевым товарищам, павшим на поле боя и пропавшим в застенках у римлян…
Когда поток слёз иссяк, я отыскал среди вещей Агазона сестерции, отложенные им для похорон, и отправил Тита в храм Венеры Либитины, где хранились погребальные принадлежности. Он понёс жрецам заявление о смерти вольноотпущенника Агазона и необходимые деньги для подготовки тела к кремации.
Конечно, я не мог проводить учителя в последний путь так, как провожают знатного римлянина – с пышной похоронной процессией и многочисленными плакальщицами, но и позволить ему быть похороненным как последнему бедняку я тоже не хотел.
Мне доводилось не однажды видеть, как обыденно и неприглядно это происходило. На узких носилках в виде открытого сундука с ручками тело бедняка в жалкой, истёршейся тоге четыре раба выносят в поле за Эсквилинские ворота и сбрасывают в один из множества склепов. Из-за круглой отдушины, сделанной в верхушке свода, эти склепы в народе зовут «маленькими колодцами». Каждый вечер один из таких «колодцев» открывается для всех покойников, которых принесут в этот день. Кладбищенские служители бросают туда тела усопших, предварительно сняв их утлые одежды, и не гнушаются взять у покойника изо рта triens – мелкую монету, положенную для уплаты Харону за переезд на тот свет. Когда склеп наполняется доверху, его закрывают каменной плитой, припечатывают её снаружи смолой и открывают склеп только через год, когда трупы в нём уже высохнут. Потом высохшие останки сжигают целыми кучами, прах развеивают по ветру, а опустевший склеп заполняется снова.
А ещё через несколько дней, когда угроза жизни Августа вовсе миновала и он начал вставать с постели, всем невольным гостям домуса позволили покинуть его.
На улице я, как будто впервые, увидел небосвод – голубой и яркий, вдохнул всей грудью свежий ветер, порадовался ласковому шелесту листвы на серебристых тополях.
Меня окликнул Тит – мой давний знакомый, переписчик из римского зала библиотеки Поллиона. В дни, когда я вёл уроки, он обычно помогал Агазону.
– Слава богам, ты наконец объявился… Уже третий день караулю тебя и прошу вызвать… А эти солдафоны, – он кивнул в сторону преторианцев, стоящих на часах с каменными лицами, – всё время отказывают…
– А что случилось? – Его тревога передалось мне.
– Старый Агазон очень плох. Несколько дней не встаёт со своего ложа, отказывается от еды и питья, бредит и клянёт всех богов… А когда приходит в себя, всё повторяет твоё имя, зовёт, боится, что не успеет проститься навеки…
2
Агазон прощался со мной «навеки» уже в который раз. Случалось это тогда, когда старый грек выпивал лишнего.
Надо сказать, что в последнее время он стал ярым поклонником идей Эпикура. Однако из обширного философского наследия своего земляка, включающего и учение о природе, и канонику, и этику, культивировал любовь к уединению и к питию…
Следуя этому принципу, пил он всегда в одиночку, употребляя вина без разбору: дешёвое ретийское и дорогое цекубское, редкое для здешних мест масикское и популярное среди римлян фалернское. Не отвергал и слегка горчащее иберийское, привезённое из солнечной Испании, и кисловатые на вкус вина с севера. Если же он чему-то и отдавал хоть какое-то предпочтение, так это греческим винам: белому косскому, за целебные качества называемому «эскулаповым», и нежному на вкус линдскому с острова Родос. Но и тут говорить о пристрастии не совсем верно – выпивал Агазон столько, что вряд ли мог разобрать вкус и цвет того, что поэты воспевают как забродивший сок янтарной лозы.
В первый раз, узнав, что мой старший друг и наставник находится при смерти, я помчался к нему со всех ног. Я бежал с такой скоростью, что обогнал бы, наверное, знаменитых олимпийцев.
Запыхавшись, примчался в библиотеку и сразу прошёл в его «закуток» – небольшую комнату, примыкающую к дальней стене греческого зала и служившую Агазону жильём.
В стеснённом воздухе замкнутого пространства витали винные пары, такие густые и тяжёлые, что мне стало дурно. Я распахнул окно и огляделся.
В комнате царил жуткий кавардак. На трёхногом столике подле кровати стояли пара пустых кувшинов, глиняная кружка с вином, рядом лежали несколько маслин, корка ржаного хлеба и надкусанное яблоко. Ещё два опустошённых сосуда валялись на полу среди груды брошенных тут же одежд.
Агазон, явно навеселе, безмятежно возлежал на узкой кровати в углу.
– А-а-а, пришёл… – увидев меня, заплетающимся языком пробормотал он и тут же выдал цитату из своего любезного Эпикура: – Всегда работай, юноша! Всегда! Л-люби работу и веселье! Не жди от людей благодарности и не огорчайся, когда тебя не благодарят… Предпочитай наставление вместо ненависти, а улыбку вместо презрения… Из колючей крапивы извлекай нитки, из горькой полыни – лекарство… Нагибайся только затем, чтоб поднять павших… Зап-помни: ум выше самолюбия. Спрашивай себя каждый вечер, что сделал ты хорошего. Вещами не дорожи. Вещи – пр-рах! Имей перед собой книгу, цветок в саду и амфору с вином в погребе…
Он начал жаловаться на свои болезни, вдруг сбившие его с ног, на внезапную слабость, слепоту и глухоту, предлагал мне попробовать вина и обиделся, когда я отверг это предложение…
Когда он протрезвел, я спросил:
– Зачем ты губишь себя, учитель?
Он даже не заметил столь почтительного обращения и сердито пробубнил:
– Ты ничего не понимаешь… У старости есть одно непреложное право – не стыдиться потакать своим слабостям, ибо завтра этой возможности у неё может и не быть вовсе…
– А как же быть с рассуждениями о свободе, которую даёт нам победа над страстями и привязанностями?
Он коротко и хрипло хохотнул и произнёс без тени всякого смущения:
– Ты забываешь ещё об одной привилегии моего возраста – не помнить даже то, что говорил накануне… Давай-ка лучше прямо сейчас простимся с тобой, юноша! – Он по-прежнему именовал меня так же, как в день нашего знакомства. – Простимся навеки! Ведь даже Зевс-громовержец не знает: удастся ли нам сделать это завтра… – И заключил меня в свои сухие объятия: – А теперь послушай, что надлежит тебе сделать в день, когда я отойду к праотцам…
Так мы с ним прощались за разом раз, и всегда навсегда. Я терпеливо выслушивал одни и те же указания, которые должен исполнить после его кончины. Суть их сводилась к немногому: какие его рукописи мне надлежало взять себе, кому раздать его нехитрые пожитки, как именно проводить его в последний путь…
Признаюсь честно, при всём уважении к Агазону эти пьяные и похмельные прощания изрядно надоели мне. Мне казалось, что Агазон просто издевается надо мной, шутит, как тот мальчик-пастух из легенды, который всё кричал про волка, ворующего овцу, когда никакого волка и в помине не было.
В конце концов я рассердился не на шутку:
– Однажды ты умрёшь по-настоящему, а я возьму и не поверю в твою смерть!
…Всё это припомнилось мне, пока мы с Титом скорым шагом шли к библиотеке Поллиона.
Агазон лежал на кровати в своей комнате.
Но одного взгляда хватило мне, чтобы понять: на этот раз всё происходящее уже не плод его фантазии и совсем не шутка: богиня смерти прекрасная Либитина уже присела на краешек его ложа и своим тёмным, прозрачным покрывалом провела по его челу… Щёки и без того худого Агазона ввалились, лицо приобрело землистый оттенок, а под глазами проступили тёмно-синие полукружья.
Он был абсолютно трезв и серьёзен.
– Ты долго шёл, юноша… Я мог и не дождаться тебя… ноги стынут… – посетовал он вместо приветствия.
Говорил Агазон медленно, отделяя слова, одно от другого, чувствовалось, что они даются ему с трудом.
Я присел на ложе и взял его холодеющую руку.
– Жизнь прошла… А для чего? Всё бессмысленно… – тяжело вздохнул он.
– Вы не правы, учитель. А ваши знания, ваши мысли, ваши рукописи…
– Люди глупы… Они живут бессмысленными надеждами, живут, полагая, что однажды достигнут своей цели… Они не понимают главного: никакая цель не имеет значения… Важно только движение к ней…
Он закрыл глаза и надолго замолчал. Потом еле слышно произнёс:
– Под подушкой… возьми… это тебе, юноша…
Я послушно извлёк жёлтый свиток, туго перевязанный алой бечевой, и отложил в сторону.
Агазон, собрав последние силы, чуть слышно пролепетал:
– Прощай, юноша… Помни меня… А я там, куда иду, тебя не забуду… Никогда…
Он снова закрыл глаза. Дыхание его пресеклось, а когда возобновилось, стало вырываться из груди всё реже и реже, пока совсем не угасло. Мышцы его ещё мгновение назад живого лица расслабились, придавая лику Агазона некую завершённость. Именно такими бывают лики у статуй героев и богов. И вместе с отстранённостью и величием проступило в нём что-то неуловимо детское, безмятежное…
Я поднёс к губам Агазона бронзовое зеркало. Оно осталось чистым, незамутнённым…
Слёзы сами собой покатились по моим щекам. Я заплакал навзрыд и не стыдился своих слёз. Умер мой единственный друг, мой учитель, мой второй отец… И я оплакивал его так горько, как будто отдавая долг всем тем, кого не смог оплакать прежде: своим родным и наставникам, погибшим от рук наёмников Фраата, моим боевым товарищам, павшим на поле боя и пропавшим в застенках у римлян…
Когда поток слёз иссяк, я отыскал среди вещей Агазона сестерции, отложенные им для похорон, и отправил Тита в храм Венеры Либитины, где хранились погребальные принадлежности. Он понёс жрецам заявление о смерти вольноотпущенника Агазона и необходимые деньги для подготовки тела к кремации.
Конечно, я не мог проводить учителя в последний путь так, как провожают знатного римлянина – с пышной похоронной процессией и многочисленными плакальщицами, но и позволить ему быть похороненным как последнему бедняку я тоже не хотел.
Мне доводилось не однажды видеть, как обыденно и неприглядно это происходило. На узких носилках в виде открытого сундука с ручками тело бедняка в жалкой, истёршейся тоге четыре раба выносят в поле за Эсквилинские ворота и сбрасывают в один из множества склепов. Из-за круглой отдушины, сделанной в верхушке свода, эти склепы в народе зовут «маленькими колодцами». Каждый вечер один из таких «колодцев» открывается для всех покойников, которых принесут в этот день. Кладбищенские служители бросают туда тела усопших, предварительно сняв их утлые одежды, и не гнушаются взять у покойника изо рта triens – мелкую монету, положенную для уплаты Харону за переезд на тот свет. Когда склеп наполняется доверху, его закрывают каменной плитой, припечатывают её снаружи смолой и открывают склеп только через год, когда трупы в нём уже высохнут. Потом высохшие останки сжигают целыми кучами, прах развеивают по ветру, а опустевший склеп заполняется снова.