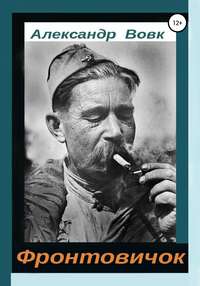Лучик-Света
– Нет-нет! – возразил я с натянутой улыбкой, стараясь понять смысл твоих последних слов. Что значит, «я не уйду»? Ты так шутишь или имеешь в виду совсем другой уход?
Меня передернуло от такого юмора, сон улетучился, и я стал тебе рассказывать, что пришло в голову. «Вот станет тебе полегче, сразу поедем в лес… В сосновый… Запах там… Помнишь? Словами не передать!» – и болтал, болтал, не прекращая, чтобы не давать тебе возможности возразить словами: «Разве теперь это возможно?»
Ты слушала молча и всё же прошептала свой вопрос, более легкий для меня:
– Ты думаешь, Сереженька, мне станет лучше?
– Это когда-то должно случиться! Наш ангел-спаситель Алексей так и сказал! Он просто убежден, что ты пойдешь на поправку. В этом он, со своим огромным опытом, нисколько не сомневается! – обманул я, зная, что тебе невозможно в это поверить, будучи давно посвященной во всю правду своего состояния.
Но ты счастливо улыбнулась и сразу уснула, а я подумал, что хорошо бы мне поесть. В последнее время я был постоянно голоден. С одной стороны, всякий раз забывал или не успевал купить что-то нужное в гастрономе, обнаруживая свой промах уже дома, с другой стороны, повар из меня не только никудышный, но, более того, мне вообще были крайне неприятны любые кулинарные занятия.
Оно и понятно! Я по-холостяцки привык ко всему готовенькому в очень неплохой нашей столовой, и если накатывало желание съесть чего-нибудь не столовское, вкусненькое, то прямиком направлялся в ресторан. Правда, были еще и друзья, которые нередко звали к себе отобедать или отужинать, но люди они все семейные, и мешать им мне всякий раз не хотелось. Знаю ведь, как настороженно воспринимают незваных гостей жены. Оно и понятно! Зачем им дополнительная морока! А то еще хуже! Вдруг этот залетный холостяк заразит мужа духом необузданной свободы – тогда держись семья!
Помимо названных трудностей с питанием не так уж давно образовалась еще одна, довольно-таки важная и неприятная. Видимо, мои кулинарные «изыски» дали о себе знать, и меня постоянно мучила изжога. Ранее я считал, что она является достаточно распространенной неприятностью, которая, как раз ввиду ее распространенности, не стоит того, чтобы о ней говорить всерьез. Мол, так или иначе, но сама пройдёт! Однако с некоторых пор моё мнение резко изменилось. Если я что-то и ел, то с большими муками – всё внутри, от горла до желудка, так пылало, что еда превращалась в подлинную пытку. Я уже опасался есть, даже будучи очень голодным. Но пить вообще становилось невыносимо, особенно, что-то горячее: бульон, чай и прочее. От безысходности я додумался перейти на мороженое – ведь холодное и питательное? Но от него меня мутило – нельзя же, в самом деле, им питаться!
В итоге я сдался на милость Нины Ивановны. Она распереживалась не на шутку, сразу намерилась приехать к нам на помощь, и только после моих клятвенных заверений, что я справлюсь сам, посоветовала мою изжогу глушить содой. «Но это – только в крайнем случае, а при первой же возможности следует показаться гастроэнтерологу». С тех пор я содой и питался, понимая, что самое интересное при таком лечении меня ждет в недалеком будущем.
Надо сказать, тайно я всё-таки мечтал о чьей-нибудь помощи в моём хозяйстве, основательно запущенном, и в уходе за тобой, а я тем временем, возможно, и отоспался бы. Надо сказать, что такие предложения ко мне поступали неоднократно. Не только от Нины Ивановны. Свои услуги предлагали и твои хорошие и многочисленные подруги из КБ, вот только я всякий раз им отказывал, уверяя, что мы и сами с тобой управляемся.
Что говорить, мне были понятны искренние порывы этих милых девчат, но я понимал и то, что их намерения вызваны острой жалостью к тебе. Более того, они не просто тебя жалели, они все знали о том, что тебя ждет, потому совестились, терялись, не знали как себя вести рядом с тобой. Любые обнадеживающие слова в таком случае являются обманом, дополнительно ранящим, а говорить о реальности, или расспрашивать тебя о твоем состоянии всякому человеку, не лишенному совести, было вообще не по себе. Вот я и отказывался, чтобы не ставить ни их, ни тебя в сложное положение.
Глава 18
Ты почти всегда молчала, не пуская даже меня в свои мысли. Меня это тревожило, ведь от болезни страдало твоё тело, но не мысли, – ты постоянно о чем-то думала. Но о чем? Отвлечь тебя мне не удавалось – ты всякий раз отвечала коротко и односложно, хотя и с нежной улыбкой, как бы, извиняясь за то, что вынуждена поступать именно так.
И всё-таки однажды, кажется, первого марта, когда я поздравил тебя с долгожданной весной и спросил, не распахнуть ли в связи с этим шторы, ты попросила пить (постоянно пересыхало в приоткрытом рту) и едва слышно спросила меня, сидящего рядом и молча поглаживающего твою руку:
– Сереженька, ты помнишь нашу поездку в мою деревню?
– Еще бы! – вполне искренне откликнулся я, в деталях представив ту чудесную, тихую и радостную нашу поездку не столько в твою деревеньку (мы в нее и не заходили), а в подлинно русскую тихую природу. В ней ты провела своё детство, и ее вклад в то, что ты стала именно такой, какой я тебя узнал, мне казалось, был весьма значительным.
Места там всюду радовали глаз. И вокруг было настолько вольготно, что и слова не требовались: и лесок с какими-то ягодами и грибами; и полевая пыльная дорога меж пшеничных полей; и длинный-предлинный глубокий пруд, вытянувшийся чулком.
Пруд редко посещали жители деревни из-за его удаленности (ты, мелкая босоногая девчонка, часто одна гоняла к нему на убогом велосипедике). Особо красиво смотрелись склоненные к пруду ивы, и прочие деревья, привлекающие взор красивыми оттенками листвы на фоне уже потухшей вдоль берега листвы, незатронутой поспешно ныряющим за обрывистый берег солнцем…
На обратном пути, основательно уставшие, скорее из любопытства, мы зашли на маленькое уютное кладбище, стиснутое со всех сторон полями. И мне представилось, будто высоко парящие над ним птицы воспринимают это кладбище как маленькое березовое пятнышко посреди бескрайних желтых полей. Красивое пятнышко, драматичная суть которого скрыта от птичьих глаз плотно сомкнувшимися березовыми кронами.
Притихшая, ты переходила от одной неухоженной могилки с овалом выцветшей фотографии к другой, и я по наивности полагал, будто ты делала это из-за такого же любопытства, какое возникло у меня. До тех пор, пока в одном месте ты приостановилась и с грустью выдохнула:
– Это моя бабушка… Это мой дед… А там, видишь? – ты взмахнула рукой в сторону. – Обе мои тетки…
Теперь я вспомнил это живо и одновременно услышал от тебя:
– Сереженька, я хочу, чтобы и меня там похоронили. На нашем маленьком кладбище. Там всегда тихо, там мои дед и бабушка. Они меня больше всех любили, больше родителей, а я очень любила их. Я хочу к ним… И деревья там большие, и летом прохладно, и зимой красиво… Ты сделаешь? – спросила ты одними губами с надеждой, непонятной здоровым людям, и задержала ладошкой невысказанные мною слова: «Ну, о чем это ты? Скоро дело пойдет на поправку!»
И я покорно промолчал, не перебивая тебя, наконец, разобравшись, о чем ты напряженно думаешь в последнее время. А мне казалось, будто ты что-то вспоминала. Хотя, наверное, и это было…
– А еще я хочу, – продолжила ты пересыхающим ртом, – быть в моем белом платье. В том, которое мы купили с тобой к свадьбе. Оно мне очень нравится! И гроб чтобы обтянули белым.
Я не выдержал, отчаянно напрягаясь, чтобы не зарыдать:
– Лучик мой, всё-всё ещё будет хорошо. И свадьба будет…
Ты улыбнулась с тем выражением, которое выдало полное понимание всех твоих перспектив, но было очевидно, что они тебя совершенно не страшили. Ты готовилась или уже была готова к тому, что случится с неизбежностью, и не тешила себя успокоительными иллюзиями.
Меня особенно поразило, как спокойно ты теперь всё воспринимала, даже с какой-то непостижимой мной радостью – ты улыбалась смиреной улыбкой прямо-таки сошедшей с небес мадонны. Может еще и потому, что связывала свой уход с завершением мук, которые ты, наверняка, всё же испытывала, но которых ни единым словом не выдала даже мне. Ты была выше жалоб – эти муки стали частью твоей судьбы, и ты переносила их, и даже принимала их, как нечто должное, не собираясь ни на кого перекладывать.
– Ты мой маленький, мой любимый герой! – произнес я. – Герой, с самой большой буквы! Я не просто тебя люблю – я постоянно тобой восхищаюсь! И верю, что всё у нас с тобой ещё будет… Будет хорошо! Скоро опять на море поедем! Но теперь в Одессу! Согласна?
– Знаешь, Сереженька, мне становится значительно лучше всякий раз, когда я вижу, что ты меня любишь, что я тебе дорога, что ты и теперь со мной, и так будет всегда. Пусть не долго… Пусть! Но мне хорошо с тобой. Чтобы понять это, я для контраста представляю, как бы мне оказалось плохо, если бы мы с тобой не встретились, если бы не случилось у меня всего того, что дал мне именно ты. Вот тогда мне умирать было бы и страшно, и обидно… А теперь я вполне счастлива и очень благодарна тебе! Ты именно тот, о ком я мечтала наивной девчонкой… И, самое для меня важное, что ты всё-таки успел меня найти! Я тебя очень-очень! И потом, после всего, что со мной будет, ты себя ни в чём не кори… Я же знаю, ты у меня страдаешь самоедством. Я бы тебя вылечила, если бы успела…
Ты улыбалась, повернувшись ко мне, а на подушку непрерывно стекали твои слезы.
– Сереженька, у меня есть еще просьба.
Я застыл, демонстрируя внимание.
– Мне обязательно надо попрощаться с мамой, – вымолвила ты.
Я онемел. Я не понимал, в какой реальности мы находимся? «Ведь ты рассказывала, будто у тебя никого нет. Вообще, никого! Потому я и не расспрашивал об этом! Не понимаю! Или ты теперь всё выдумала? Тебе так становится легче?»
– Прости! Дело в том, что моя мама жива. Но, так уж получилось, что я ее давно оставила в одиночестве… Потому что не смогла справиться с ней. Ну, не должна была я так поступать, но она запила и меня не слушалась. Это случилось, когда убили моего брата. В Афганистане. Она и не выдержала. Но и потом всё не закончилось, а я не смогла ей помочь и потому уехала, бросила ее, запряталась от нее, от ее разбитой жизни, в своем институте. Не могу себе простить… Приезжала, конечно, но… Не могла я там находиться долго, не могла смотреть, не могла помочь…
– Светик! Я всё понял! – среагировал я, видя, как ты разволновалась. – Она в вашей деревне? Куда мы ездили? Я привезу ее, обязательно привезу… Только не волнуйся так! Сейчас решу, кто с тобой в это время побудет, и сразу поеду…
По указанному адресу я нашёл маленькую сухонькую женщину, к моему удивлению после твоего рассказа, совершенно трезвую, хотя ее внешний вид действительно свидетельствовал о длительном пагубном пристрастии.
В запущенном доме было холодно, темно и не убрано. Наш разговор оказался коротким и не требующим каких-то разъяснений, как только она узнала главное – о твоей беде. Но и не сказать об этом напрямик, будто окатив твою мать холодной водой, я, наверное, и не мог. Иначе, как мне тогда представлялось, она бы со мной и не поехала. Кто я ей? Она меня и не видела никогда.
До города почти всю дорогу мы молчали; мать непрерывно беззвучно плакала, поворачивая ко мне на звук непонимающее лицо с растертыми глазами, когда я что-то для приличия спрашивал, но отвечала редко, тут же отворачиваясь. Пару раз я разобрал ее бормотание, обращенное в никуда: «Боже, и за что же ты гнешь и без того несчастных? Ведь говорят, будто ты милосерден…»
Встречу дочери, сознающей вину перед матерью, с ней самой, недавно узнавшей о непоправимой беде, нависшей над ее ребенком, я вспоминать не могу, поскольку это выше моих сил. И ушел я тогда в другую комнату, лишь бы не смотреть, как в горе бились рядом две родные пропащие души. И удалился я не из деликатности, а потому что и меня душили слезы.
Первую ночь твоя мать неотлучно провела рядом с тобой. Звали ее, как я узнал уже дома, Наталья Ивановна. Она сразу многое взяла на себя, исполняя всё необходимое без вопросов, разбираясь без подсказок в моём нехитром хозяйстве (я даже стиральную машину себе раньше не завёл, в виду ее ненадобности), но относясь ко мне с подчеркнутым уважением.
Так продолжалось три дня и три ночи. Наталья Ивановна настойчиво не разрешала мне дежурить возле тебя, а сама, если и спала неведомо когда, то только на диване, в комнате, где находилась ты. Я же от всех прежних обязанностей был ею категорически отстранён. Разве, по магазинам пробежался пару раз, покупая заказанное ею, а ночью, наконец, безмятежно отоспался, буквально провалившись в какую-то мутную темноту без снов, да еще два дня провел на работе, чтобы не мешаться под ногами Натальи Ивановны и хоть чем-то помочь своему главному, перед которым продолжал испытывать неловкость за вынужденный побег.
Возвращаясь в те давние вечера домой, я чувствовал себя почти свободным человеком, поскольку вырвался из самого кошмарного плена, да еще, себе же на радость, опять окунулся в спасительную стихию родного НПО.
«Ну как она?» – спрашивали все, уклончиво формулируя вопросы о тебе, а я отвечал: «Как будто лучше; вот, кстати, и мать жены приехала, мне помогает, потому я и вернулся на работу на некоторое время…»
Глава 19
С порога заглянув к тебе, чтобы оценить обстановку и поцеловать, я понял, что моя радость, в которой я купался на работе среди дня, не имела под собой веских оснований. Лучше тебе не стало, а моё хорошее настроение, вызванное освободившимся от оков эгоизмом, можно вполне рассматривать как некое предательство – жена в тяжелом состоянии, а он, видите ли, вырвался на свободу, забыв обо всём! «Тоже мне, нашел время крылья расправлять! На работу помчался, вместо того, чтобы с женой посидеть, подежурить, да матери ее дать хоть небольшой отдых. Ей-то каково всё это видеть и понимать! Она же втройне должна быть железной, чтобы такое выдерживать!»
Но ты опять меня ни в чем не упрекнула, даже не спросив, где я был весь день, лишь улыбнулась на поцелуй и едва слышно сообщила:
– Мама тебе что-то приготовила. Пойди, поешь, Сереженька.
Наталья Ивановна с распухшими красными глазами возилась на кухне, по-простому накрывая для меня стол. Я поздоровался, поблагодарил, удивившись, как она успела заняться еще и этим, спросил о том, как сегодня наша Светланка?
– Плохо ей… Совсем плохо. Вас несколько раз звала. Кажется, в бреду…
– Поешьте со мной, Наталья Ивановна, я один не буду! – мне хотелось ее как-то растормошить, увести от тяжелого уныния, но разве в нашем положении такое было возможно?
Она всё же присела за стол, развернувшись в сторону плиты, на которой уже ничего не стояло, но через минуту, ни к чему из еды не притронувшись, встала со словами:
– Вы уж ешьте сами, Сергей Петрович. Вот я и кашу вам сварила, поскольку вижу ведь, маетесь, одну соду и глотаете… Хоть вы-то себя поберегите – даст бог, вся жизнь у вас впереди! – она заплакала и ушла к дочери.
Из кухни я тихо прокрался к тебе, боясь помешать. Ты, казалось, спала, но слегка качнула головой в мою сторону, показав, что всё слышишь. Мне стало очевидно, что даже это тебе далось с трудом. «Плохо дело, а моя голова в эти дни только работой и занята» – укорил я себя.
Потом я до ночи просидел с тобой, что-то рассказывал о твоем КБ, передавал приветы от многочисленных подруг и не только от них… Всё старался рассмешить тебя тем, что у них на этаже уже несколько дней идет ремонт в туалете, потому все наши падшие дамы, то есть, курильщицы, пухнут без дыма. Возможно, теперь отвыкнут и сами бросят шмалить! Но ведь и остальные, нормальные, постоянно рыщут по этажам и пухнут от того, что там тоже нет воды. Ты слабо улыбалась.
Около полуночи нас разлучила Наталья Ивановна, до того возившаяся в кухне или немного подремавшая перед телевизором:
– Вы ложитесь, Сергей Петрович, вам завтра на работу; теперь я посижу.
– Сереженька! – тихо позвала ты. – Давай попрощаемся… Поцелуй меня.
Это были последние слова, которые ты мне сказала. Ночью ты тихо умерла, и даже мать этого не заметила, убиваясь из-за этого в своём горе еще сильнее: «И как я задремала, не простившись с последней своей кровинушкой!»
Глава 20
Хоронили тебя девятого апреля. Такого количества людей рядом с подъездом нашего дома, где на время прощания выставили гроб, обтянутый белой тканью, не собиралось никогда. Слева и справа от подъезда, считай, на целую сотню метров в обе стороны едва отыскивались свободные места, чтобы стоять, никого не задевая. А люди всё прибывали и прибывали, стараясь взглянуть именно на тебя, мраморно лежащую в нарядном белом платье.
Люди пришли попрощаться с тобой, мой Лучик, помня тебя молодой, неунывающей и красивой. Все были потрясены трагедией, которая несколько месяцев подряд развивалась рядом с ними, но незаметно для них, погруженных в повседневные заботы, а теперь содрогнувшихся от того, чему вдруг стали свидетелями.
Я не выходил из тягучей прострации, ни на что, не реагируя, интуитивно стараясь для поддержания себя ни во что не вникать, лишь кивком отвечал на многочисленные соболезнования. Более того, опять же интуитивно, без умысла и собственной воли я пытался мысленно отстраниться от того, что происходило вокруг, забыть всё каким-то неведомым мне способом. И в некоторой степени мне это удалось. Правда, одновременно я сильно отупел, но тогда и это меня не тревожило. Да и люди, даже заметившие моё отупение, легко относили его на счет особой драматичности ситуации, в которой я оказался, и, конечно же, в тот день прощали мне всё, что угодно.
Теперь я не могу не признать, что моё поведение по отношению к тебе во время похорон оказалось эгоистичным! И я понимаю, что не иначе рассудил бы обо мне любой, не делавший скидку на моё потрясение. Но я понимаю и то, что без той странной моей отрешенности от происходящего уже через короткое время едва ли оказался бы в состоянии участвовать в дальнейших процедурах.
Внутренне я был растерзан и смят, будто беда навалилась нежданно-негаданно, а ведь в действительности никакого секрета для меня из того, что она вот-вот придет, давно не было. Тем не менее, беда раздавила меня настолько, что, случись необходимость принять какое-то важное решение, я бы не смог это дело осилить. И своё состояние я даже не пытался проанализировать – я просто плыл в общем потоке событий и людей. Но помню, что оставшееся у меня самообладание было направлено только на то, чтобы продержаться хотя бы внешне достойно до конца скорбного мероприятия. Моя психика была настолько перегружена, что я опасался разрыдаться в любую минуту, бесконтрольно и безудержно, или просто где-нибудь заснуть. Я плохо соображал…
Почему так происходило, я не знаю. Возможно, в том проявлялось понимание мною масштаба моей потери. Возможно, столь огромной оказалась мера моей любви к тебе, что без тебя я потерял опору на будущее и уже не контролировал себя в должной мере…
Может, я был оглушен пониманием, что не сделал для тебя многое из того, что был обязан сделать для любимого человека в самые последние его дни?
Всё это было так. И всё же, кажется мне теперь, что в последние дни я умышленно несколько сторонился тебя, намеренно выискивая себе «важные» занятия на стороне, лишь бы не сидеть подолгу рядом, лишь бы не видеть твоих мучений. Возможно, я износился физически – всё-таки непрерывные суточные дежурства и добивающий меня гастрит сделали своё черное дело! Наверное, всё это в совокупности и определяло моё состояние. Но, возможно, я бежал совсем не от твоих страданий, а чтобы облегчить собственное положение и состояние, чтобы не мучиться самому? То есть, опять же, всё это являлось лишь проявлением моего эгоизма, а не сострадания к тебе.
Самое страшное для меня, о чем я сообразил значительно позже, заключалось в том, что мои переживания и моё состояние зависели совсем не от того, что произошло с тобой, что не стало тебя, что ты умерла, а от каких-то странных собственных соображений, которым я и отчета тогда не отдавал. Вроде и не очень я пожалел о том, что потерял тебя, хотя искренние слезы меня душили, и места себе не находил! Однако же, как сам сообразил, но значительно позже, я ведь ни разу не задался самым характерным для моей ситуации вопросом: «Как же теперь я буду без тебя?»
Может, в действительности я настолько бездушный, настолько лицемерный и пустой человек, что, сам того не понимая, и не любил тебя никогда по-настоящему? Может, и происшедшее по-настоящему, как бывает при наличии сильных чувств, меня не потрясло? Может, где-то внутри себя я даже облегчение почувствовал?
«И надо же! При всей каше в моей голове я когда-то посмел тебя ещё и на прочность проверять! Стыд-то какой! Хорошо хоть, никто не догадывается, что за белиберда у меня внутри творится, да что я за фрукт эдакий, если меня наизнанку вывернуть! Невеста, фактически жена, сгорела на моих глазах, а у меня в голове черт знает что? В чем-то сам себя стыжу, а в чем виноват, будто не понимаю! Вот и вину на себя несуществующую зачем-то взвалил. А на самом-то деле, ведь делал я для тебя всё, что мог. Или не делал? Почему тогда оправдываюсь? Видимо, рыльце всё же замарал, а в чём – не знаю?»
– Лжешь! Еще как знаешь! – возразил мне внутренний голос.
– Думаешь, если отвел бы тебя к врачам сразу, еще там, в Батуми, или хотя бы по приезду домой, но немедленно, не дожидаясь острой ситуации, в результате которой тебя со «скорой» да сразу на операционный стол, всё получилось бы иначе? – защищался я.
«Конечно! Тогда всё ещё было возможно! – возразил внутренний голос. – А когда уже на «скорой» привезли, то врачи в ходе операции всюду обнаружили эти проклятые метастазы. Если бы их оказалось немного, то с частью какого-то органа иногда их удается отсечь, но отовсюду – никто не сможет, всё ведь не вырежешь! Только тогда хирурги и расписались в собственном бессилии. И, ничего вам не сказав, отправили молодую женщину умирать. А вы-то полагали, будто всё хорошо. Вы надеялись, потом даже возмущались из-за того, что врачи вас как-то странно избегают… Но если бы ты привел к ним Светлану чуть пораньше, то те проклятые метастазы, возможно, еще отсекли бы… Вот в чем твоя вина! Из-за тебя Светлана потеряла драгоценные деньки, и такая потеря стоила ей, наверное, жизни».
– Нет же! – продолжал я оправдывать себя. – Несколько потерянных дней в ситуации Светланы ничего не решали! Всё уже там, еще в Батуми, было предопределено! И не я виноват в том, что случилось далее! – продолжал я выискивать спасительные оправдания.
– А если бы всё-таки успели? – не унимался внутренний голос.
– Э, нет! – не сдавался и я. – Я, безусловно, виноват! Я не защищаюсь и не оправдываюсь! Я во многом виноват! Но совсем не в том, что опоздали с операцией, что прозевали! Я сильно виноват лишь в том, что убегал от тебя в последние дни при первой же возможности, хотя должен был находиться рядом – ты ведь этого так хотела, хотя и не просила. Даже в своей жуткой ситуации ты больше заботилась обо мне, нежели о себе! И я обязан был непрерывно говорить тебе и говорить все те слова, которых ты от меня ждала! Хотя бы напоследок, коль уж раньше был столь упертым и сухим истуканом. Кто же в целом свете мог поддержать тебя лучше меня? От кого еще ты ждала слов любви и поддержки в свои самые трудные, самые последние деньки? Но я убегал, и, вполне возможно, лишь потому, что уже не любил так, как обещал, как клялся тебя любить!
«Да нет же! Совсем не так! – тут же возражал я себе. – Убегал я потому, что очень переживал и тяготился твоим состоянием, которое с подачи врачей слишком легко посчитал безнадежным. Мне тяжело и даже страшно было на всё это смотреть!»
– Но не рано ли ты смирился с тем, что предрекали эти врачи? – коснулся больного места мой прилипчивый внутренний голос.
«Боже мой! О чём это я? Если бы я хоть что-то знал наперед! Ведь не злой же умысел, в конце концов, я вынашивал, а как раз наоборот. Я же тогда, в Батуми и позже, весь любовью к тебе горел! И окончательно всё решил не в своих интересах, а для нас обоих, как единого целого! И вполне уверился, что мы с тех пор никогда не расстанемся. Не мог же я одновременно что-то замышлять тебе в ущерб! Но вот как всё обернулось! Теперь тебя не вернуть…
Стало быть, моя попытка создать семью, которая должна была стать счастливой и крепкой, опять оказалась неудачной! Снова я у разбитого корыта, да еще с кровоточащей раной в душе!»
Если быть честным до конца, то я не испытывал привычной для траурной церемонии полноты чувств, в то время как некоторые, та же мать твоя, едва сознание не теряли. У меня такого не было. Могло показаться, будто я и не страдал. Более того, именно для того, чтобы не страдать, я отстранился от того, в чем формально участвовал, ушел в себя, почти отключил сознание, оставаясь в своём бездушном теле, никак не сознающем, что оно должно отзываться на всё произошедшее невыносимой болью.