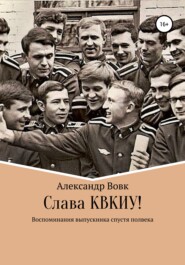По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кого выбирает жизнь?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты опять, дедуль, к словам цепляешься! Ведь прекрасно меня понимаешь!
– Каждое слово что-то означает, и путать не надо – ни смысл, ни слова! А то однажды вообще перестанем друг друга понимать, произнося одно, а понимая, совсем другое.
– Так ты не ответил, принести тебе проигрыватель?
– Не надо, Настенька! Деликатесы особенно быстро приедаются. Оставь мне их на потом. Лучше я сам с собой поговорю! Уже давно заметил, чем дольше живу, тем мне интереснее с самим собой разговаривать!
– Но это, как раз, понятно! Почему же с хорошим человеком не поговорить! – поддержала меня своим смехом внучка. – Ну, я пошла? А то неудобно – обещала ведь недолго! И сколько же у тебя проводов всяких накручено! Даже завидно! И всё для того, чтобы не сбежал? Да? Так я передам всем нашим, что ты уже молодец? Ты же молодец?
Настенька ласково потерлась о мою руку щекой, поцеловала ее и, пятясь к двери, помахала мне свободной от сумки рукой, и беззвучно скрылась.
8
Опять в палате наступила неестественная тишина, располагающая лишь ко сну, да к тяжёлым воспоминаниям. И они немедленно навалились, хотя я бы предпочел оставаться в одиночестве.
Итак! До шести вечера, то есть, практически весь день, мы с тобой боролись с высочайшим давлением и болями, каждую минуту ожидая спасительного прихода участкового врача. Как нам это удавалось – разговор особый и бесконечно долгий, почти как эти десять изматывающих часов, в течение которых мы ждали, надеясь на появление чуда при каждом буханье на лестничной площадке лифтовой двери, отчётливо слышимой даже днем.
Участковым врачом оказалась миловидная торопливая женщина, похожая на Дюймовочку. Поражала стремительность, с которой она расспрашивала нас об истории болезни, выписывала больничный лист, давала советы увеличить вдвое дозу нитроглицерина, опирающиеся на опыт её бабушки, дожившей якобы до девяноста трех лет. Покончив с этим минут за семь, она улетучилась настолько молниеносно, что мы поняли – впереди нас без реальной врачебной помощи ждёт вторая ночь, еще ужаснее и опаснее.
Но удерживать Дюймовочку и задавать ей вопросы по существу мне казалось крайне бесполезным. Вся ее точеная фигурка (лица я и не припомню, будто его и не было) излучала единственное стремление – поскорее от нас умчаться. Какие уж вопросы в вечернее время, если где-то ее ждали брошенные на произвол, может, даже проблемные дети и супруг на диване, наверняка дергающийся перед телевизором в такт выкрикам футбольного комментатора.
Думаю, Дюймовочка, судя по оставленному ею в квартире запаху, прежде чем упорхнуть, выкурила за нашей дверью сигарету, точно так же, как сделала это до прихода к нам. «Странное дело! – подумалось мне. – Если врачи, постоянно твердя нам о вреде курения, его не бросают, доверяют ли они сами себе и своим, чаще всего, весьма посредственным познаниям в области медицины? Именно потому, что не понимают и не доверяют, сдаётся мне, медицина для них любимым делом так и не стала! И никогда не станет! Она всего-то профессия, как и любая другая, дающая право где-то пристроиться! И как при подобных обстоятельствам мы вынуждены им верить? Я имею в виду даже не вред от курения (в этом мы, слава богу, и без их помощи способны разобраться), а лишь целесообразность и благоразумие обращения за помощью именно к ним!»
Ну, не могу я об этом ужасном курении молчать! Детей бы хоть не губили, дуры! Не занимаясь делами, которыми по праву можно гордиться, которые возвышают людей в собственных глазах, делают более значительными и уважаемыми, они находят для самовыражения самые компрометирующие их занятия!
Ну, почему наше население столь стремительно деревенеет? Почему оно бездумно копирует всё подряд? Попадает из одного капкана в другой капкан и ничуть не набирается ни ума, ни опыта! Лишь повторяет то, что кто-то из знакомых им рекомендовал, как нечто модное! Но наступит ли хоть когда-то мода на полноценные самостоятельные мозги?
Абсолютно такая же глупость просматривается в моде современных болванчиков на татуировки, на тренажерные залы, на пристрастие к религии, на похудение, на косметическое «омолаживание», на самые современные айфоны-телефоны. И каждый из них, убеждая себя в том, что он исключительный индивид, находит немало аргументов в пользу того, что занят исключительно важным и полезным делом, к тому же, «проверенным опытом миллионов», что якобы подтверждает правильность выбранного пути. Но этих людишек, как теперь говорят, зомбируют, а сами они не только этому не противодействуют, но и плывут по течению в общем потоке, чем помогают превращать себя в стандартизированных членов некого человекообразного стада! Они не умеют мыслить самостоятельно, но им кажется, всё иначе. Они уверены, что идут правильным путём, поскольку этим же путём рядом с ними идут почти все!
Жаль мне их! Но одновременно жаль и всех нас, думающих самостоятельно и поступающих независимо, ибо нас мало, а этих стадных модняшек – миллионы! И они нас потопят, не утруждая себя. С собою заодно! И тем самым перекроют человечеству возможность развиваться как некой большой и разумной системе, судьба которой напрямую связана с её интеллектуальными возможностями!
Хорошо ещё, хоть сын впитал моё воспитание по части абсолютного неприятия курения, как занятия бессмысленного, вредного и, вдобавок, гадкого. С дочерью получилось иначе – она мнит себя самостоятельной, не включая собственные мозги, потому в своей жизни дров уже наломала. А самостоятельности, как не было, так и нет!
Сын однажды целую историю мне поведал, сразу предупредив, чтобы я случайно не проболтался его жене Наташке. Он ещё в институте приметил мелькавшую иногда перед глазами студенточку, но с другого факультета. Потому встречал ее совсем редко; проскочит, бывало, она мимо, да еще с какими-то парнями со своего факультета или с целой армадой подруг. Как тут вырвешь ее из привычной толпы, даже с серьезными намерениями? Но однажды удалось!
Честно тебе говорю, батя, сознался сын, приблизился я к ней, и сразу на все мои фазы – триста восемьдесят! Не дай бог, повторяю, ты Наташке проговоришься! Я тогда просто оторопел, глядя на нее. Вот она, думаю, моя судьба, ниспосланная свыше. И, что было важно для меня, со стороны девушки я тоже к себе интерес заметил. Ну, дальше как бывает, пригласил ее в воскресенье в городской парк, а потом в кино. И, знаешь, даже вовремя пришла! Пунктуальная! И всё начиналось у нас очень даже занятно. Вот только в парке (я и не предполагал такого поворота событий, засмеялся сын, рассказывая мне это), она вдруг в сумочке покопошилась и закурила! И, знаешь? Всё! У меня по телу ток уже другой полярности проскочил! Буквально за секунду моё особенное отношение к ней, еще, по большому счету, и не закрепившееся, рассыпалось на осколочки, которые и собирать не хотелось. Вот, веришь, смотрю на нее новыми глазами – красавица, и не только лицом и фигурой, а каждым своим жестом, но душа моя ее больше не принимает! Как фальшивка какая-то, что ли? И вроде бы, пустяк! Сказал бы мне кто о себе такое, я бы еще и не поверил! Мало ли их курит? Противно, но не главное же! А я почувствовал тогда сильнейшим образом, и не осталось у меня никаких сомнений, что не смогу и не хочу на нее курящую больше смотреть! Весь ореол, который я над ней в своих мечтах возвёл, растворился в вонючем сигаретном дыму. Вот и всё! Конечно, погуляли мы тогда немного, раз уж пригласил. Дело чести, как говорится! Конечно, я и виду не подал, и в кино сходили, и проводил я ее до дома, как водится, но встреч потом уже не искал. А когда через неделю она меня в коридоре сама остановила, поинтересовалась, то ли с обидой, то ли с иронией: «Ты, видимо, очень занят? Я в прошлый раз и не спросила, ты не на золотую медаль, случайно, тянешь?» Ну, я и брякнул, что первое в голову пришло: «Нет! От медали я еще на первом курсе отказался, когда курить попробовал!» На том и разошлись окончательно.
– Так она даже о причинах твоего реверса не узнала? – спросил я сына.
– Не от меня же ей узнавать! Пусть сама думает! Еще не хватало мне стать ее душеприказчиком!
– Дело прошлое, конечно, но, может, теперь жалеешь? Может, следовало ее в нужном направлении слегка… Глядишь, спас бы заблудшую душу! Вдруг тебе бы и зачлось! – посмеялся я.
– Нет, батя! Может, я и прямолинеен как строевой лес: ведь понравилась она мне до нервной дрожи, но курящих женщин для меня уже тогда не существовало, поскольку в моём представлении это нечто иное! Органически отталкивающее! Не смогу привыкнуть к помойке изо рта! И ко всему, с этим связанному! Допустим, стал бы я ее на путь истинный наставлять, как ты советуешь, уж не знаю, как бы она на мои нравоучения среагировала, но главное-то во мне! Привязался бы я к ней всей душой; потом даже в случае неудачи уйти бы не смог, считал бы себя обязанным… Не жизнь, а каторга! Знаешь, я ведь жену себе на всю жизнь искал, а не яркую особу с манерами проститутки!
– Если курит, то сразу…
– Может, и не сразу! Так потом! Это же мировоззрение! Знаешь, сидели такие дивчины в наше время по ресторанам. Возможно, они прекрасны на все сто, но обстоятельства распоганые жизнь испортили! Допускаю! Но сидели они, глазками в стороны стреляли и ждали, кто их подцепит. А чтобы чем-то себя занять, вилочкой в салатике время от времени ковыряли, да сигаретками закусывали! В те годы, сам помнишь, конечно, ох, как трудно всем в стране жилось… Не до шика! А проститутки сплошь в джинсе да в импорте… Вот нормальные девчонки с тем недоразвитым и некритичным мировоззрением им и завидовали до душевной или зубной боли и, разумеется, все их манеры на себя примеряли, дурочки! И как бы я их всех тогда перевоспитывал? Для этого страна должна быть нормальной! И окружение не должно быть гнилым! Сам ведь знаешь, нормальной считается лишь та страна, в которой люди все нормальные! Нет, батя, я в себе призвания на перевоспитание не замечал! Жалко их, дурочек, жалко их детей, но настолько противно мне их грязное дыхание, что я счастья, связанного с ними, сторонюсь, как чёрт ладана.
– Ладно! Я с тобой почти согласен! А всё-таки, как насчет выбора жены? Внешне-то всё у вас хорошо, но вы ведь так далеко от нас забрались, чуть не на край света, что мы вас не видим, ничего толком о вас и не знаем. Я-то понимаю, в семейной жизни приходится всякое, и переживать, и преодолевать, но мать всё сомневается, всё волнуется за вас. Как вы там, если без прикрас?
– Из тебя, батя, контрразведчик никакой! Только мне и сказать-то, в общем, нечего! Даже под пытками! Потому что у нас с Наташкой всё как надо! И не волнуйтесь с мамой за нас. И тем более ни в чем Наташку не подозревайте. Если уж о ком говорить, так, скорее, обо мне! Это мне, как оказалось, далеко до семейного идеала, а Наташка моя – молодец. Она будто рождена женой войскового офицера! Жалоб от нее на трудности не услышишь, усталости, словно, вообще не знает, меня никогда не упрекнёт даже в том, в чём следовало бы… А уж о сигаретах или других выпендрёжах и говорить нелепо! Молодец! Таким как она, памятники при жизни надо возводить, да мне всё некогда!
Вот и вся история!
9
«Что только ни застревает в моих мозгах?» – подумалось мне в тот миг, когда медсестра принялась возиться с контрольной аппаратурой у противоположной стены. Обнаружив мой интерес, почему-то ей мешающий, она продолжила своё дело, резко задвинув занавеску, потому всё последующее я воспринимал лишь на слух.
Шумно вкатили разболтанную каталку с жесткими носилками, шумно перегрузили кого-то на кровать. Постепенно в палате накопилось немало медиков, каждый из которых в какой-то степени участвовал в начавшемся шумном процессе реанимации новой больной. То, что в моей палате оказалась женщина, я понял по командам и комментариям, когда кто-то стал возмущаться, зачем ее определили в мужскую палату? На что Владимир Александрович ехидно заметил:
– Любовь Петровна, если вас при всей тяжести состояния моей пациентки смущают вопросы ее целомудрия, то смею вас заверить, здесь на него покуситься никто не сможет! Не тот у нас контингент! А другого места просто нет! Давайте, коллеги, лучше высказываться по существу…
Напряженная работа врачей, мешавшая моим воспоминаниям и чуткому сну, продолжалась неизвестно, как долго, но постепенно ее интенсивность обнулилась, все разошлись, и, в конце концов, опять образовалась тяжелая тишина.
Спустя какое-то время тишину разрушил скрип той же разболтанной каталки с носилками, потом что-то тяжело на нее загрузили и выкатили из палаты. Явилась санитарка, тихо ворчавшая себе под нос. Она, видимо, что-то долго убирала, вытирала, перестилала, и опять наступила тишина.
В одиночестве я пребывал недолго. Появившийся Владимир Александрович шумно сдвинул занавеску в сторону и с показной энергией занялся мной:
– Ну и как вам тут лежится, голубчик? – произнес он, наблюдая перед собой показания «Сименса», висевшего у меня в изголовье, но, не замечая меня. – Ну, и прекрасненько! Прекрасненько мы тут лежим! Сердечко у нас в порядке, давление, хоть в космонавты! А как голова? Кружится? Нет? Чудненько! Чудненько! Так какие остались жалобы, голубчик? – он, наконец, взглянул на меня, поводил рукой перед моим лицом, в стороны и вверх-вниз, следя за моим взглядом, остался доволен и заключил. – Всё у нас замечательно! Сегодня или завтра мы вас переведем в неврологию! Там вас ещё чуток подлечат, а через неделю вы о нас и думать забудете! Исключительно для порядка должен сообщить, что мы у вас пункцию брали. Сразу, как вы у нас оказались. Это та самая процедура, которую больные и их родственники встречают в штыки, но у нас иного выхода не было, поскольку лечение инсульта зависит от того, появилась ли кровь в спинном мозге, или обошлось. В обоих случаях лечение требуется разное. У вас оказался второй вариант, потому инсульт считается ишемическим. Но это так, для информации! Вам же теперь надлежит расписаться, что вы сами на эту процедуру согласились! Вот так уж получилось! Всё наоборот! Так вы согласны или придется всё переиграть? – усмехнулся Владимир Александрович.
«Вот я и справился! – торжествовал я, не очень слушая врача. – Какое мне дело до того, что уже в прошлом! Важно, что теперь он считает меня почти здоровым, а ведь раньше и надежды ни у кого насчет меня не было!»
Благословив процедуру моего перевода из отделения интенсивной терапии и реанимации, Владимир Александрович вышел из палаты, но следом явилась медсестра, принявшаяся молча готовить меня к переезду.
Видимо, от меня желали избавиться поскорее, но я продолжал радоваться, что всё так скоро закончилось, что скоро я увижу тебя, возобновлю работу со студентами, которые, конечно же, ждут меня, чтобы что-то пересдать, что-то досдать или отчитаться. В общем, обычная студенческая рутина, в которой я давно и с удовольствием существовал!
А дальше случилось непредвиденное никем. Когда медсестра, старательно готовя меня к переводу в неврологическое отделение, отключила дозатор, крохотными порциями постоянно вливавший в вену дофамин, я взревел от дикой боли, выгнувшей меня в пояснице. Заодно что-то невыносимо острое врезалось в грудь, началось удушье; тревожным верещанием отозвался сбесившийся «Сименс», зафиксировав стремительное угасание сердечной деятельности. Но мне тогда только и запомнилось, как испугавшаяся медсестра метнулась из палаты за помощью врачей…
В одно мгновение промелькнуло сожаление, что столь желательная выписка, почти наяву замаячившая впереди, неопределенным образом откладывается. Моя радость оказалась преждевременной. И это была последняя запомнившееся мне мысль.
Но в то время ещё никто не мог предполагать, насколько интересным с медицинской точки зрения окажется мой случай, поскольку никто из врачей до последнего дня лечения (о нём – впереди) не знал, что со мной делать и от чего лечить?
Только меня потом и это не удивляло, ведь врачи со мной с детства мучились, сомневаясь в любых диагнозах моих необычайно странных болезней. Видимо, всё у меня, не так как у всех! Вот и теперь – давление самостоятельно никак не держалось. Потому от дозатора меня решили не отключать. Но что делать дальше, никто из врачей не знал.
10
– Вот и чудненько! – донеслось до меня с небес. – Удивили вы нас, дорогуша! Куда это вы отправились без разрешения? Пришлось вам опять дофамин вкачивать! – Владимир Александрович принялся водить рукой перед моим лицом. – Вы меня видите? Отзовитесь, ну! Видите? Видите?
В ответ я смог лишь моргнуть, испугавшись чего-то непонятного, вместо того, чтобы обрадоваться очередному воскрешению, о котором пока ничего не знал и не понимал.
– Вот что, дружочек! Скажите-ка нам, будьте так любезны, что это вы перед убытием устроили? Не хотите нас покидать? Говорят, вы большой ученый! Потому, видно, и нам который раз задаёте столь большие загадки!
Владимир Александрович заметил, что я недовольно поморщился от его слов, и принялся оправдываться:
– Вы же профессор… из нашего университета. Я как узнал здесь вашу фамилию, так сразу и вспомнил. Неужели, думаю, тот самый? Не поверите, как давно я вас знаю! Меня, еще студента медфака, дружок с мехфака силой затащил на вашу лекцию, буквально заразив своим восторгом: «Пойдем, не пожалеешь! У вас таких нет! Очень интересно, содержательно и методика потрясающая – смотри и учись! И отношения с нами, студентами, прямо как с полноценными людьми!» – Владимир Александрович засмеялся. – Это он шутил так, конечно! Но хорошая молва о вас в годы моей учёбы далеко разошлась. Конечно, преподавателей хороших у нас было немало, это он тоже пошутил, но чтобы вспоминать о них через годы и без повода… Такого не каждый удостаивался. Потому не ищите в моих словах иронию! – закончил он со мной и переключился на реанимационную сестру, обстоятельно давая ей указания.
«Не скрою, приятно такое слышать! Иногда. Хотя я к подобному вниманию давно привык. Зайдем, иной раз, с женой в какой-то магазин или автобус, а на меня с интересом поглядывают исподтишка, часто здороваются, причем, с большим почтением. Супруга и удивлялась, откуда у меня столько знакомых, хотя сама знала, что я молодежью постоянно окружен. Студенты, студенты… Одни из них часто бывают рядом, поскольку еще учатся, другие – уже выпускники прошлых лет – встречаются реже. Их уважение особенно приятно, ведь они кое-что в жизни успели познать, кроме вузовских стен, сами опытом умудренные, но при всём этом и меня не забыли! Стало быть, полезен им я чем-то до сих пор. Уважение, оно любого человека окрыляет, только работаю-то я не ради него, а чтобы самому себя уважать. Да и работа моя мне не в тягость, а всегда по душе! Сколько людей на земле несчастны лишь от того, что вынуждены работать без интереса к своему делу? А ведь работой можно упиваться. Не скрою, бывают проблемы, случаются и неприятные конфликты, иной раз совсем заканчивается терпение и тогда, словно вирус в каждую клеточку проникает и одолевает уже изнутри отупляющая рутина, свойственная нашей профессии, но почти любое занятие со студентами для меня, если уж не праздник, так подлинное удовольствие. Приятно, видеть, как их поднимаешь! Многих вообще удается зажечь своей дисциплиной «Физика природных катастроф», хотя, вижу, тянутся они ко мне в связи совсем с другими темами, обсуждаемыми с ними, так сказать, факультативно. Но и это не обидно. Выходит, им интересно знать, что именно я, а не кто-то другой, думаю о том, да о сём.