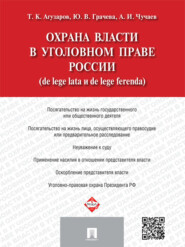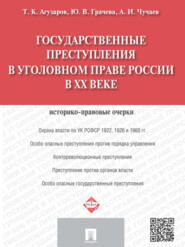По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Уголовно-правовые взгляды Н.Д.Сергеевского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По мнению Сергеевского, в указанные правила пространственного действия уголовного закона могут быть внесены изменения. Так, законодатель, пользуясь своей безграничной властью и игнорируя интересы международного сообщества, может возложить на своих граждан ограничения, не вытекающие из законов государства совершения деяния. В этом случае преступление получает двойную оценку (по законам места его осуществления и законам государства, гражданином которого лицо является) 99.
С. Будзинский по этому поводу пишет: «Из вышесказанного о том, что государство имеет право наказывать нарушение его законов за границей, несмотря на то, что и другое государство усматривает в этом же деянии нарушение его порядка, – следует, что так называемое в международном уголовном праве предупреждение (praeventio), т. е. прежнее взыскание другим государством, не должно иметь никакого влияния на ответственность подданного за те же деяния пред его собственным государством… Для государства безразлично, как смотрит на это деяние другое государство, в котором оно было совершено» 100.
В законодательстве XIX в. ответственность за деяния, совершенные за границей, регулировалась по-разному. В одних странах предусматривалось освобождение от уголовной ответственности, если лицо было наказано, помиловано или освобождено от наказания в другом государстве; в других – предписывалось применение законов государства, на территории которого совершено преступление, если они карают за него менее строго; в третьих – менее строгие законы применяются только в том случае, если деяние направлено против иностранного государства, его граждан. В этом отношении отличалось законодательство Италии и некоторых германских государств, следовавших началу реторсии 101.
«В тех случаях, когда по законам места совершения условия наказуемости и размер наказания суть мягчайшие, сравнительно с законами места производства суда и наказания, законодатель может установить смягчение наказаний (но не применение наказаний другого государства) в виду того, что степень виновности, выражающаяся в размерах полагаемого по закону наказания, зависит от конкретных условий места и времени. Тяжесть одного и того же преступного деяния, совершаемого в различных государствах, может представляться по условиям места весьма различной, и карательная власть государства не имеет интереса налагать наказания свыше меры содеянного» 102.
По законодательству XIX в. юрисдикция государства 103 за пределами его территории определялась принципом субъективной национальности, по которому судебная власть государства распространялась на все деяния, совершенные его гражданами в каком бы то ни было другом государстве, либо принципом объективной национальности, или реальным, в соответствии с которым судебная власть государства распространялась только на деяния, совершенные на территории другой страны, направленные против его интересов или прав его граждан 104.
Наибольшее развитие получил принцип универсальный, или космополитический. Он основывался на общности интересов государств в борьбе с преступностью. «Исходя от представления о такой общности интересов всех народов по охранению порядка, теория права может выставить принцип универсальной подсудности, содержание которого выражается афоризмом: всякое преступное деяние, где бы и кем бы оно совершено ни было, может быть судимо каждым государством, во власти которого окажется преступник» 105.
Ученый оказался прав: в настоящее время указанный принцип является основополагающим в борьбе с наиболее опасными международными преступлениями и преступлениями международного характера по законодательству государства места привлечения лица к уголовной ответственности независимо от его гражданства и государства, на территории которого было совершено общественно опасное деяние 106.
По мнению Сергеевского, институт выдачи преступника 107 до признания универсального принципа действия уголовного закона в пространстве выступал единственным средством, с помощью которого привлекались к уголовной ответственности лица, совершившие преступление в одном государстве и скрывшиеся в другом 108. Вместе с тем он полагал, что применение данного института должно быть законодательно ограничено. Во-первых, выдача не должна допускаться в случаях когда деяние, признаваемое преступным по закону государства, на территории которого оно совершено, не является таковым по законодательству государства, на территории которого оказалось требуемое для выдачи лицо (например, политические и многие религиозные преступления). Во-вторых, нельзя осуществлять выдачу, если имеется основание полагать, что в государстве, требующем экстрадиции, суд будет политизированным или преступник подвергнется насилию во внесудебном порядке, в нарушение действующего закона. Это может быть при так называемых смешанных политических преступлениях, т. е. когда общеуголовные преступления совершаются ради достижения политических целей или под их прикрытием, либо в ситуации, когда лицо, совершившее тяжкое политическое преступление, обвиняется в ином деянии 109. «Правительство должно выдать преступника, если считает его заслуживающим наказания и если оно убеждено, что он будет наказан по закону и по мере вины; наоборот, не должно выдавать преступника, если этих условий не имеется» 110.
Следует заметить, что многие вопросы института выдачи остались за пределами внимания Сергеевского, некоторые же его взгляды не нашли поддержки у ученых-криминалистов 111. По сути, в его работах экстрадиция представлена лишь в общих чертах, в частности, не определен круг лиц, подлежащих выдаче (гражданина страны, которой предъявлено требование о выдаче; гражданина страны, требующей выдачи; гражданина третьей страны), не показано различие выдачи и высылки, предусмотренной законодательством России, и др.
Следует остановиться еще на одном важном аспекте уголовного закона – его системности 112. Сергеевский выделяет два составляющих момента данного обстоятельства.
1. Соответствие уголовного закона правовоззрениям народа. Эта сфера, в которой «…составители проекта не могут ограничиться ни готовым историческим законодательным материалом, ни образцовыми западными кодексами, ни, наконец, теми идеалами, которые более или менее устанавливаются в науке» 113.
По этому поводу ученые высказывали мнения лишь общего характера. Например, утверждали, что «всякое правоопределение должно соответствовать живущей в обществе идее о справедливости» (Тон) 114; «уголовные законы, не основанные на обычаях страны, всегда будут заключать в себе нечто отталкивающее, возбуждающее сомнение… уважение к ним поэтому ослабляется» (Бернер); «общенародные правовоззрения должны лежать в основе уголовного правосудия, в противном случае оно не будет иметь жизненной силы: всякое растение немедленно засыхает, как только корни его лишаются здоровой почвы» (Шютце); «наказуемость деяний есть такой вопрос, о котором может судить всякий разумный человек, какого бы звания он ни был… Уголовное право принадлежит к тем предметам, на которые характер нации должен иметь решительное влияние. Воздействие народного духа нигде не является более естественным, как в уголовном праве; отрицание в этой области авторитета народного убеждения или ограничение его сравнительно с другими областями права должно рассматриваться как явление в высшей степени неправильное» (Пухта).
Некоторые российские ученые считают, что законодатель должен «подметить проявление юридической, самобытной народной жизни, юридические обычаи и потом, пометивши, собравши их, возвести к единству, к общим началам и на основании уже этих начал и общих выводов создать закон, который бы ближе подходил к условиям и требованиям живой народной жизни» (Муллов). Другие же резонно замечают, что «есть такие обычные правила, внесение которых в кодекс равнялось бы возвращению к первобытному, младенческому строю правосознания» (Пахман).
Сергеевский исходит из того, что нормы обычного права могут соответствовать уже имеющимся потребностям и интересам, условиям жизни, но не отвечают будущему. Их значение для техники кодификации, конструкции общих уголовно-правовых принципов, вытекающих как «вывод из частных определений права различных областей», общих определений, «построенных при помощи добываемых науками, изучающими природу человека», форм наказания и содержания карательных мер, определения области наказуемых деяний и их сравнительной тяжести также различно.
Например, нет никакого смысла прибегать к господствующим в обществе воззрениям в выборе техники кодификации, которая оттачивается за счет практических навыков и изучения опыта образцовых уложений «разных времен и народов». Аналогичная ситуация складывается и относительно конструкции общих принципов, вытекающих из других отраслей права (действие уголовного закона во времени, по кругу лиц и в пространстве и др.) 115.
Общие определения, построенные на данных, добытых науками, изучающими природу человека (субъективные условия вменения, вменяемость, так называемая невменяемость малолетних и др.), вообще никак не связаны с воззрениями народа.
Более сложной представляется проблема наказания, его специальных целей, форм и карательных средств. Так, некоторые ее аспекты достаточно обстоятельно разработаны пенологией, их реализация связана с ресурсными и финансовыми возможностями государства. Здесь рекомендации науки предпочтительнее, чем сложившиеся представления народа. «Не подлежит сомнению, что телесное наказание есть наиболее свойственное народному миросозерцанию… Мы констатируем это явление с полным убеждением возможности его уничтожения» (Кистяковский).
Вместе с тем законодатель не должен устанавливать видов наказаний, которые противоречат народному правосознанию; это может повлечь «деморализацию уголовного правосудия». По своей тяжести они не могут превышать меру, которая воспринимается как справедливая. При организации тюремной системы целесообразно использовать имеющийся российский опыт. Некоторые ученые успех тюремной реформы в России ставили в прямую зависимость от того, как воспользуется законодатель «для исправления преступников силой, представляемой устройством существующей у нас тюремной общины» (Якушкин).
Народное правовоззрение во многих случаях является единственным критерием определения сравнительной тяжести наказаний и репрессивной силы карательной меры вообще.
Криминализация деяний, выявление их сравнительной опасности – центральная и наиболее сложная задача уголовного права. С одной стороны, законодатель имеет фактическую и юридическую возможность признать наказуемым любое «нарушение норм правопорядка»; с другой – он должен ограничиться лишь теми из них, которые нуждаются в охране уголовно-правовыми средствами. Таким образом, признание деяния преступным обусловлено двумя моментами: запрещенностью деяний и их тяжестью. «Первый момент по общему правилу зависит не от народных правовоззрений самих по себе, а исключительно от положительного права разных областей – государственного, гражданского и т. д. …Здесь связь уголовного закона с народными правовозрениями устанавливается лишь посредственно: они могут совпадать лишь настолько, насколько определения закона гражданского, государственного, канонического согласны с народными правоззрениями…» 116.
Из этого общего правила, по мнению Сергеевского, есть исключения. Первое – оно непоколебимо, если законодательство «исчерпывает собой все положительное право страны»; другими словами, когда источником права выступает закон. Второе может быть обусловлено пробелами в правовом регулировании, «т. е. останется ряд таких действий, относительно которых ни непосредственно, ни посредством умозаключений нельзя будет на основании законов гражданских и государственных сделать вывод о их правомерности…». Третье исключение вызвано тем, что «закон гражданский и государственный нередко бывает неясен, неточен и поэтому неопределителен. Закон уголовный в этом случае остается без почвы: он должен определить состав известного преступного деяния, но не имеет для этого руководства. Единственный выход – обратиться к данным народного правосознания и на основании этих данных формулировать состав деяний, подлежащих наказанию» 117.
2. Соответствие уголовного законодательства положениям других отраслей права. С проблемой межотраслевых связей уголовного права Сергеевский вплотную столкнулся при подготовке проекта Уложения 1903 г. Как уже указывалось, под его руководством редакционным комитетом Санкт-Петербургского юридического общества в 1884–1887 гг. были подготовлены замечания и предложения объемом свыше 400 страниц; как статс-секретарь Государственного совета, управляющий отделом Свода Законов он по должности выверял соотношение предлагаемых уголовно-правовых норм с нормами других отраслей права 118. Ученый исходил из того, что нормы уголовного законодательства должны учитывать положения других отраслей права, в противном случае они вступят в противоречие; это в свою очередь потребует их пересмотра (не это ли имеем сегодня применительно к УК РФ?). Не соглашаясь с мнением тех, кто считал возможным осуществить подобное согласование уже после принятия уголовного уложения, Сергеевский пишет: «Если же обратно сему, в самом порядке составления проекта изъясненное условие не было поставлено на первый план – тогда работа по согласованию должна необходимо предшествовать законодательному утверждению проекта. Безусловно необходимо проверить каждое положение такого проекта с точки зрения отношения к действующему законодательству других отраслей, так как только таким способом можно определить действительное достоинство проектированных положений и решить вопрос о том, преобладают ли выгоды, ожидаемые от нового уложения, над теми неудобствами, кои повлечет за собой вызываемое им изменение действующего законодательства… Само собой разумеется, что новое уложение, хотя бы утвержденное законодательным порядком, не может быть введено в действие впредь до соответствующих преобразований подлежащих частей законодательства, какой бы срок для этого ни потребовался. При этом не надо упускать из виду и того соображения, что работы по согласованию могут очень часто привести к необходимости изменить не действующее законодательство, а наоборот, правила нового уложения» 119.
Замечания Сергеевского не были учтены в полной мере. Между тем он был прав, настаивая на согласовании Уложения со Сводом Законов. Уголовное уложение мало принесло пользы правосудию; оно вносило неопределенность, создавало противоречия там, где больше всего нужны были ясность и единство регулирования.
Объект преступления
Проблема объекта преступлений имеет давнюю историю. Это, пожалуй, объяснимо тем, что его определение обусловлено ответом на один из главных вопросов в уголовном праве: что защищает уголовный закон от преступных посягательств?
Одни ученые в качестве объекта преступления предлагали считать правовое благо. Например, Ф. Лист, основываясь на теории Р. Иеринга, определял объект преступления как защищенный правом жизненный интерес 120.
Характеризуя уголовно наказуемое деяние, Н. С. Таганцев указывал, что оно посягает на «охраненный нормой интерес жизни» 121. Объектом же преступления он признавал «правовую норму в ее реальном бытии» 122, понимая под этим фактическое содержание правоохраняемого блага, т. е. те же интересы жизни.
Таким образом, Н. С. Таганцев, солидаризуясь с Ф. Листом и Р. Иерингом, преодолел так называемый узконормативный подход к определению объекта преступления, характерный для нормативистской теории в качестве объекта преступления, разработанной в рамках классической школы уголовного права в середине XIX в.
Соединить норму права с ее реальным содержанием пытался Л. С. Белогриц-Котляревский, считавший, что объектом преступления «с формальной стороны является норма, а с материальной… те жизненные интересы и блага, которые этими нормами охраняются» 123. Из дальнейших рассуждений автора можно заключить, что он различает нарушение преступлением закона (юридического установления) и нарушение им благ и интересов; вторые выступают следствием первого.
С. В. Познышев критикует признание интереса в качестве объекта преступления. «Интерес не может быть нарушен иначе как посредством посягательства на то благо, с которым этот интерес связан и которое и является настоящим объектом преступления. Нарушение интереса только и может состоять в том или ином повреждении или поставлении в опасность этого блага» 124.
Объектом преступления ряд дореволюционных российских криминалистов признавали норму права 125. Например, И. Я. Фойницкий считал, что собственно объектом преступного деяния «должны быть почитаемы нормы или заповеди, которые имеют своим содержанием известные отношения, составляющие условия общежития («не убей», «не покидай в опасности» и др.)» 126.
Критикуя такой подход к определению объекта посягательства, Н. С. Таганцев пишет: «Норма права сама по себе есть формула, понятие, созданное жизнью, но затем получившее самостоятельное отвлеченное бытие… Всякая юридическая норма как отвлеченное понятие может быть оспариваема, критикуема, непризнаваема» 127. «Если мы будем в преступлении видеть только посягательство на норму, будем придавать исключительное значение моменту противоправности учиненного, то преступление сделается формальным, жизненепригодным понятием, напоминающим у нас воззрения эпохи Петра Великого, считавшего и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и срубку заповедного дерева равно важными деяниями, достойными смертной казни, ибо все это виноватый делал, одинаково не страшась царского гнева» 128.
А. Лохвицкий указывает: «Государство требует от человека отказа от таких деяний, которые вредят правам других, следственно ведут к анархии, распадению общества» 129, поэтому «закон под страхом наказания вообще воспрещает деяния, соединяющие два признака: безнравственность… и… опасность действия для общества» 130.
В. Д. Спасович признает объектом преступления «чье-либо право, столь существенное, что государство, считая это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточности других средств охранительных, ограждает нерушимость его наказанием» 131.
Н. С. Таганцев по поводу сказанного замечает, что «… посягательство на субъективное право составляет не сущность, а только средство, путем которого виновный посягает на норму права, на которой покоится субъективное право… Право в субъективном смысле, в свою очередь, представляет отвлеченное понятие, как и норма, а потому само по себе по общему правилу не может быть непосредственным объектом преступного посягательства, пока оно не найдет выражения в конкретно осуществляющем благе или интересе… Для преступного посягательства на такое право… необходимо посягательство на проявление этого права» 132.
Между тем В. Д. Спасович в своем видении объекта преступного посягательства, по нашему мнению, достаточно близко подошел к признанию в качестве такового общественных отношений. Его рассуждения свидетельствуют о том, что на самом деле объектом преступления он считал права конкретных лиц не сами по себе, а как содержательный элемент социальной связи, относящейся к общественным отношениям. «…Так как всякому праву в одном лице соответствует известная обязанность в других лицах, то преступление можно было назвать: отрицание известной обязанности. Юридическое право и юридическая обязанность всегда предполагают соотношение между двумя, по крайней мере, лицами» 133. Человек «не может быть выделен из общества; общество есть его естественное состояние… Внутри же общества каждый отдельный человек есть один из составных атомов общества, одна из рабочих сил в экономии общественной, один из членов, общественному организму подчиненный, от него зависящий, для него действующий» 134. Именно поэтому «правонарушения затрагивают отдельные личности и целые группы в более важных их правах, при попрании коих невозможен никакой быт и порядок общественный. Это преступления общественные или уголовные» 135; преступное деяние «несовместимо с общественным порядком»; «характеристику уголовных преступлений составляет то, что содержит в себе посягательство на целый общественный порядок, они преследуются обществом независимо от воли пострадавших от них лиц» 136.
В. Д. Спасович прямо указывает: «Преступное деяние должно содержать в себе посягательство на известные общественные отношения» 137.
Следует заметить, что проблемы объекта в теоретическом наследии Сергеевского занимают небольшое место. По его мнению, всякое преступное деяние, будучи по своей правовой природе нарушением норм положительного права, определяющих юридический строй общества, по своему содержанию неизбежно несет в себе материальный либо идеальный вред отдельным лицам или всему обществу. «Отсюда ясно, – пишет он, – что всякое преступное деяние, являясь по своей отвлеченной природе нарушением норм закона и, следовательно, посягательством на интерес всего общежития или, как иногда говорят, правопорядка, заключающийся в необходимости соблюдения установленных законом правил жизни и деятельности, – в конкретной своей форме всегда заключает в себе вред или опасность известным конкретным благам или интересам» 138.
Таким образом, можно сделать вывод: Сергеевский примыкает к группе криминалистов, которые в качестве объекта признавали блага и интересы. Однако при оценке его воззрений надо иметь в виду два обстоятельства. Первое – он выделяет вред, причиняемый всему обществу, а не только отдельным лицам. По его мнению, лишь область отношений к обществу подлежит правовой регламентации. Следовательно, хотя он об этом прямо и не говорит, преступное деяние Сергеевский наделяет свойством общественной опасности. Второе – ученый упоминает о двойственности объекта преступного деяния. «…Во-первых, в качестве объекта представляется, ближайшим образом, непосредственный предмет посягательства, а затем, во-вторых, отвлеченный интерес всего общежития, нарушаемый неисполнением соответствующего предписания закона. Только соединение обоих моментов образует понятие объекта и, вместе с тем, обосновывает собою состав преступного деяния: нарушение нормы закона невозможно без посягательства на конкретные блага или интересы; одно же посягательство на эти последние, если за ними не стоит нарушение нормы закона, не будет преступным» 139.
Исходя из сказанного, Сергеевский делает вывод: преступными могут признаваться деяния, направленные на предметы, с которыми человек находится в юридических отношениях. С этой точки зрения вся деятельность человека распадается на четыре сферы: отношения к самому себе; отношения к существам мира сверхчувственного; отношения к природе; отношения к обществу.
К самому себе человек не находится в правовых отношения. Поэтому посягательство на свои собственные блага может признаваться лишь безнравственным деянием, но не преступлением. Такие действия наказуемы только в том случае, если они выступают способом нарушения иных благ и интересов, взятых под охрану уголовным законом. Например, лицо, причинившее вред здоровью с целью уклонения от военной службы, наказывается не за нарушение собственного блага, а за нарушение государственных интересов.
В этой связи представляется интересным объяснение существования в российском законодательстве XIX в. уголовной ответственности за самоубийство. «Как остаток противоположного воззрения, сохранилось в Уложении о наказаниях наказание самоубийц. Но наказание носит религиозный характер: самоубийца лишается христианского погребения, а при покушении на самоубийство предается церковному покаянию» 140.
В целом не образуют преступления деяния, направленные на предметы окружающей среды, так как с ними человек также не находится в юридических отношениях. Посягательства на них наказываются, если заключают в себе вред или создают опасность конкретным лицам или обществу. Они наказуемы в тех случаях, когда: а) имеет место истребление чужих вещей; б) создается общая опасность при использовании общеопасного способа (например, поджог); в) нарушаются нормы нравственности (например, жестокое обращение с животными); г) таким образом подрывается авторитет власти (например, уничтожение печатей, срывание указов и др.). «За этими пределами посягательство на вещи, взятые сами по себе, не может иметь юридического значения, так как res 141 не суть субъекты прав, а лишь объекты их» 142.
Деяния, направленные против Бога, ангелов, святых, могут признаваться безнравственными, антирелигиозными, но не могут считаться преступными. В уголовном законодательстве ряда стран, в том числе и России, предусматривалась уголовная ответственность за преступления, именуемые религиозными или против веры. Нередко при этом согласно редакции уголовно-правовых норм деяние якобы затрагивает само Божество. Между тем по своей сути данные посягательства нарушают интересы общества. В одном случае они направлены на религиозные чувства верующих; в другом – на религиозный культ как одно из высших условий благосостояния общества; в третьем – на церковь как особую форму общения граждан, охраняемую государством. Указанная особенность текста законодательных определений есть не более как остаток старины, когда законодательство, под влиянием различных исторических причин, или пыталось брать на себя задачу регламентации внутренних отношений человека к Богу, или, так сказать, низводя Божество на землю, рассматривало его как непосредственного участника отношений с людьми.
Таким образом, по мнению Сергеевского, «только в отношениях человека к другим людям, к обществу и государству возможны преступные деяния, так как только в этой области посягательство может заключать в себе нарушение правоотношений»143.
Однако из этого правила есть исключения. Речь идет о ситуациях, когда неприкосновенность соответствующего блага или интереса не обеспечивается государством; следовательно, деяние, причиняющее им вред, не образует преступления. Автор выделяет три такие ситуации: 1) закон обязывает лицо причинить вред (например, военнослужащего в отношении неприятеля; исполнителя приговора в отношении осужденного; должностного лица в отношении граждан, интересы и блага которых оно по службе должно ограничить); 2) для осуществления признанных законом прав и благ необходимо ограничение прав других лиц (например, применение дисциплинарных санкций; причинение вреда при отражении посягательства); 3) согласие потерпевшего на причинение вреда.
На основании этого выделяются четыре группы условий, определяющих правомерность нарушения отдельных благ и интересов: исполнение закона и возложенной по закону обязанности; осуществление прав, предоставленных по закону; необходимая оборона; согласие потерпевшего. «Конструируя эти институты, наука уголовного права должна двигаться путем выводов и отвлечений от положений права других областей – гражданского, государственного, – определяющих содержание прав и благ, установленных и признаваемых государством за гражданами» 144.
Применительно к первому указанному выше обстоятельству отсутствует противоправность деяния. В целом признавая достаточность общей законодательной формулы «не вменяется в вину деяние, учиненное во исполнение закона», в целях защиты свободы и неприкосновенности личности Сергеевский считал необходимым непосредственно в законе регламентировать все случаи возможного вторжения в права и законные интересы граждан. По его мнению, чем выше стоит государство в культурно-политическом отношении, тем подробнее и точнее определяются эти случаи, и наоборот.
В российском законодательстве данное обстоятельство отражено неудовлетворительно, законодательные формулировки обтекаемы, разбросаны по различным нормативным правовым актам, в частности содержатся в уставах уголовного судопроизводства, о содержащихся под стражей, воинском, лесном, таможенном, о предупреждении и пресечении преступлений и т. д. Вероятно, по этим причинам в ст. 340 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных содержится указание о том, что должностным лицам предоставляется право в исключительных случаях принимать чрезвычайные меры, не предусмотренные в законе.
Уголовное уложение 1903 г. не только содержит общее положение о ненаказуемости деяний, совершенных во исполнение закона (ст. 44), но и в ст. 637 воспроизводит содержание ст. 340 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.