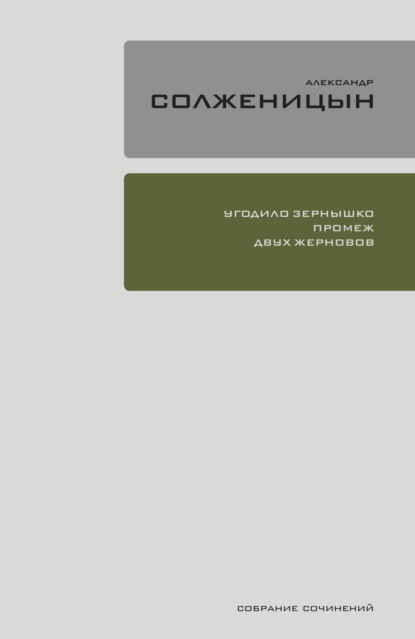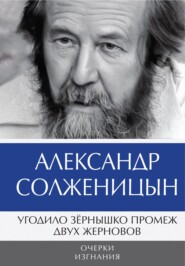По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так – незабываемо мы теперь побеседовали «не под потолками» и вернулись в Цюрих, где уже могли быть «потолки».
И что ж? – теперь-то и засесть писать? Э нет! Э нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето.
Вдруг в июне сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского «Архипелага» – как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН». Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: «Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40–45 миллионов человек». Но… Нет. Не самому автору книги защищать её. Надо научаться и молчать. Протечёт как-то без меня. И протекло – печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом.
Летом – получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский «Архипелаг», недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь – транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, – и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты [см. здесь (#litres_trial_promo)]. Книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года.
И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко – благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже – в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал, а она, беззвестная, беззащитная, – посмела! Как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в «Нью-Йорк таймс»[51 - Не дадим погибнуть Светлане Шрамко (23 августа 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 123–124; На английском: Solzhenitsyn A. How things are done in the Soviet provinces: letter to the editor // New York Times. 1974. 30 Sept. P. 34.]. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали – а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем, или даже никогда…[52 - В 1991 узнал, письмо от неё: много мучили её, много преследовали, а уцелела. – Примеч. 1993.]
А тут – Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? В чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться.
А тут – после интервью Си-би-эс неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент «Дейли телеграф», стал теперь писать мне, и приезжал – и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встретиться с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный трибунал, судить советских вождей.
Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма – никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно – но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы – стараться как можно меньше пользоваться ею.
Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что – не созрело, нековременно, сил не собрать, опозоримся. А он – горел и хотел меня видеть в главных организаторах и пригласителях. Я не согласился.
Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора – вдруг в западногерманском «Шпигеле» сообщение[53 - Der Spiegel. 1974. 18 Nov. № 47. S. 130–133.]: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет – непосредственно делать политику, для этого он организует Международный трибунал против своей родины (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат первоначально имел идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, – но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги Наташи Дмитриевны.
Я – как ужаленный: ну что за гадство? Ну что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды!
Как раньше «Штерн» мне плюнул в лицо[54 - В разгар травли Солженицына в СССР гамбургский журнал «Штерн» напечатал полную искажений и вымыслов статью о родителях и дедах писателя (Steiner D. «Eine Familie von Flegeln…»: Krach um Alexander Solschenizyns Roman «August 1914» // Stern. 1971. 18 Nov. S. 104–110). Статью тут же перепечатала «Литературная газета»: Журнал «Штерн» о семье Солженицыных / [Послесл. ред.] // Лит. газ. 1972. 12 янв. С. 13. Реакцию Солженицына см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 313–315 (гл. «Нобелиана»), 677–681 (Прилож. 24).], так теперь «Шпигель», два сапога – пара. Мне – досадно, мне – позорно: и – невыполнимая же затея, и – разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие – теперь надо отмываться, оправдываться. Прошу Хееба написать в «Шпигель» протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: «Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты». Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости – не легче советского. «Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда».
Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти – что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж – хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу!
Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения[см. здесь (#litres_trial_promo)].
И редактор Р. Аугштайн очнулся (может – проверил своего информанта, а тот попятился) – и в следующем номере «Шпигеля», явно отступая, напечатал моё письмо – и в русской копии, и в немецком переводе, – таким образом всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохраняя лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения – а теперь зачем? – то он «сделает соответствующие шаги».) При моей неспособности вести тяжбу, найти время – я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы.
Этот конфликт я выиграл, можно сказать – по неопытности: я ещё не понимал, как от небывалой обретенной свободы вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, – я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения – можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше – но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться [см. здесь (#litres_trial_promo)]. (От этой публикации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.)
Конечно, все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам – они в моём темпераменте, без того я не попадал бы на такие разрывы. И всё же считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем – это скорей по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени – против всего Несделанного.)
Тем летом утверждался в Берне созданный мною Фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва – благополучно и быстро утвердили, и название: «Русский Общественный Фонд». Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название – это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимое. «Фонд помощи политзаключённым», предложили мы. – Ни в коем случае! Слово «политический» неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». (Название обреза?ло культурные и созидательные задачи Фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей – пусть звучит так, что поделать?)
К осени – всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей – да не смогу писать?
Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, – просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова «едва ли не поджигателем войны» и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан, и т. д. Как всегда, в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма – да когда их добудешь? – а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл – мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)
Ах, как больно отрываться от работы! Но и – кто же защитит Сахарова, правда? После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых – сразу верится, что и эта – произошла, так. В действиях этих братьев, правда, элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь «марксистской оппозиции», более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), – вдруг уехал за границу «в научную командировку» (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта – и остался тут как независимое лицо; помогает брату своему захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и свободно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренной верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.
Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом-близнецом он, однако, был малосимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью – я написал письмо ему в поддержку, убеждал и «Новый мир» отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему – Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадёжно больной девочки – с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами – сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одолжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не «Круг-96», правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива в 1965 отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке, я тогда публично выступил в его защиту[55 - Текст в защиту Ж. Медведева был подхвачен самиздатом, широко печатался в западной прессе: «Безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача… крутят ему руки и везут в сумасшедший дом… Раз думаешь не так, как положено, значит, ты ненормальный! <…> А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в своё время не тронули пальцем – и то мы клянём палачей второе столетие» (Вот как мы живём (15 июня 1970) // Публицистика. Т. 2. С. 39–40.) Также см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 661, 662 (Прилож. 14); Solzhenitsyn assails detention of Medvedev in Mental Hospital // New York Times. 1970. 17 June. P. 1.]. Защищал и он меня статьёй в «Нью-Йорк таймс» по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ[56 - Medvedev Zh. In defense of Solzhenitsyn // New York Times. 1973. 26 Febr. P. 31.]. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет после “Ивана Денисовича”»[57 - Медведев Ж. А. 10 лет после «Ивана Денисовича». London: Macmillan, 1973.], он вёз её печатать в Европу, – то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал и не поручусь, что? это за личность, – Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, – но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй, всем тем – и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение[58 - Зильберберг И. Необходимый разговор с Солженицыным. Forest Row (Sussex), Colchester: [б. и.], 1976.].) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и пригласительный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, – от западной безпечности потерял голову сразу.
Затем вскоре стали приходить от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычному радио, я сам же в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. Вот, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о режиме, господствующем в СССР: «У нас не режим, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции». Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! Вот так эволюция! Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по «левой» в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)
Перешвырнуло меня на Запад – Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих, и даже в первые дни. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот теперь – свидетельствует Максимов – он напал на Сахарова.
И я – сгоряча ввергаюсь ещё в одну передрягу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление[59 - Достойный истолкователь (11 сентября 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 125–127.]. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.
А всё тот же Флойд берётся поместить в «Таймс». Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон – проходит день, второй, третий – что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в «Дейли телеграф» в ослабленном, искажённом виде, – значит, уже в «Таймсе» не будет, почему? «Таймс» опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.
И надо сказать, что «Таймс» почувствовала верно. Жорес и через норвежскую «Афтенпостен», и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет «вклада Сахарова в дело разжигания войны» – как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: «У нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции», – но я-то слышал своими ушами!
Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах – и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадёжнее запутывает мои дела, – мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься.
Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадёжно портят или испакощивают мои книги – а мне этой проблемой некогда заняться: переводы? А что ж для писателя в моём положении важнее?
Ещё неожиданностью для меня было, какую бурю вызвало «Письмо вождям» в образованщине: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. «Письмо» моё бранили резко, страстно – и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь.
И в эмигрантской прессе шёл о «Письме» напряжённый спор, были и за и против. Так же неожиданно для меня выступил Михайло Михайлов[60 - Михайлов М. Своевременные мысли // Посев. Франкфурт-на-Майне, 1974. № 9. С. 33–40.], которого я не привык и считать участником русской жизни, но – «нашим» преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие «наши» сильно менялось и дробилось, – и Михайлов меня поразил просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И «Письмо» моё объявлял антирусским и антихристианским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И всё это выносится из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: «ну, так раз и навсегда надо [Солженицыну и его читателям] уяснить вот что», «Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт», «ну что ж, придётся просто повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой»… И ещё более поразил Михайлов приёмами, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валятся на меня вместе с «прокитайскими группировками, итальянскими неофашистами, эмигрантами-монархистами», и «Солженицын повторяет грех Ленина», и «Письмо» состоит из тех же частей, что «Коммунистический манифест». И чутко развивая намёк Сахарова: «Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя»…
О-го-го, какие же рогатые вырастают из славных отважных диссидентов!
А в начале октября вышел 1-й номер «Континента» – я вскипел от развязно-щегольской статьи Синявского, от его «России-суки»[61 - Абрам Терц [А. Д. Синявский]. Литературный процесс в России // Континент. Париж, 1974. № 1. С. 143–190.]. Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, – надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, – и вот, сохранился у меня черновик, писал:
РЕПЛИКА В САМИЗДАТ. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии «Континенту»: «пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле». Пришёл № 1. И читаем: «РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО…» Речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска?. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца – нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению «их», а не «нас» – направление безплодное, никогда в истории не дававшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет – всю вину) в происшедшем за 60 лет, – но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескать помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таимой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за «нас» – иначе мы уже не Россия.
Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске «Из-под глыб».
Но вот так – характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, – и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся «Континент»? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого ску?ченья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне.
За август я преодолел опасную отвычку, отклон от «Колеса»: ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный «Октябрь», теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собиралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), – так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя «Колесо» по Узлам и стремясь скорей прорваться к Февральской революции, я решился пропустить весьма-таки узловой, «узельный» август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я кардинально заколебался: да не вставить ли «Август Пятнадцатого»? Но стал смерять, сколько же других – исторических и личных – линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов – и теперь готов был уверенно вести в «Октябре» сюжет о Ленине. А число возможных тут ленинских глав нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот ресторанчик «Штюссихоф», где заседал ленинский «Кегель-клуб», – ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.)
Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поездить по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к Фурглеру.
По ровной части маршрута – опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву – мы поехали с Алей вдвоём с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Окру?га Берна и округа Женевы – как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева – чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно, не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путешествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепясь, – а вот уже за океан собирались.
В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас – но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я – из их группы. За?мок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? – но отзывает зэческое сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского[62 - Имеется в виду «Шильонский узник» В. А. Жуковского (1822) – переведенная им романтическая поэма Дж. Байрона «The prisoner of Chillon» (1816).]. Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, – и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя – до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)
В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, однако, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтвержденья, мы ещё и с дороги проверяли звонком домой, в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.)
Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы – необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полое течение родится вослед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе – выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, – и отчего ж он – как и Бунин, как и Бунин! – не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как безценен был бы их труд, недоступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно, что? могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции – он уклонился от самой России.
Ещё из СССР в 1972 году я «по левой» послал письмо в Шведскую Академию: пользуясь правом лауреата, выдвинул Набокова на Нобелевскую премию по литературе[63 - …выдвинул Набокова на Нобелевскую премию… – Солженицын писал в Шведскую академию: «Присуждение премии Набокову, по моему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских премий. <…> Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовём гениальностью» (Шведской Королевской академии (12 апреля 1972) // Публицистика. Т. 2. С. 43–44).]. И самому Набокову послал копию при письме [см. здесь (#litres_trial_promo)]. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, – но ведь и родился и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий, – как же быть ему к ним равнодушным?
Когда я приехал в Швейцарию – он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покоробило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?»
Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами – и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в иное. Окостенел на избранном пути он – да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся.
Дальше поехали мы долиной верхней Роны – невдалеке от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодноватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк – свидетель веков и веков, – произвела величавое впечатление: неистираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот например, в это – как хотелось бы! и когда? – мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её – отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом за?ливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.)
Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось. Он выбрал себе эту долину и эту скалу – можно понять! Выбор могилы – когда он есть – он многое может выразить.
С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам – ну веков пять ему, не меньше.
А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер – моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатишь прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию – всего лишь, чтобы пробраться покороче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго Маджоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце – и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, – как видели их, и как не видели, Моркоте с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе из туннеля ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду холодную, мрачную, – незабываемо! На скале – выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем:
Доблестнымъ сподвижникамъ
И что ж? – теперь-то и засесть писать? Э нет! Э нет. Тряска и дёрганье продолжались всё лето.
Вдруг в июне сообщают мне по телефону, что в Женеве на территории ООН властями её запрещена продажа французского и английского «Архипелага» – как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН». Очень громко можно было вмешаться, в таких случаях рука моя сразу тянется к бумаге, и черновик заявления готов через 10 минут: «Генеральному секретарю Вальдхайму. Считаете ли вы предосудительным оскорбить правительство и допустимым оскорбить целый народ? Я ждал бы, что ООН не запретит эту книгу, а поставит её на обсуждение Ассамблеи. Среди обсуждаемых ею вопросов не часто встречается уничтожение 40–45 миллионов человек». Но… Нет. Не самому автору книги защищать её. Надо научаться и молчать. Протечёт как-то без меня. И протекло – печатали газеты, как-то компромиссно исправилось потом.
Летом – получаю частное письмо из Израиля: караул! почему так дорого продаётся русский «Архипелаг», недоступно купить. Да что такое, да ведь я же всем издателям поставил условие низкой продажной цены! чтобы весь мир читал! Но вишь – транспортировки, какие-то торговые наценки, прибыли книжных продавцов, – и вот книга опять дорога. В горячности шлю письмо в израильские газеты [см. здесь (#litres_trial_promo)]. Книжные торговцы там очень возбудились, по своим расчётам они оказывались правы, и хотели в суд на меня подавать (антисемитизм!), да удержало общее моё положение первого года.
И тогда же, в конце лета, узналось про случай с рязанкой Светланой Шрамко – благодаря её редкой настойчивости прорвалось, а то ведь из Рязани и знать не дашь, всё глухо. Протестовала она против той самой отравы от завода искусственного волокна, которая невидимым сладковатым шлейфом травила целую полосу города, и меня тоже – в моём ближнем сквере и через форточку в квартире. Но я вот не протестовал, а она, беззвестная, беззащитная, – посмела! Как было мне теперь не подать ей помощи своим голосом? Послал письмо в «Нью-Йорк таймс»[51 - Не дадим погибнуть Светлане Шрамко (23 августа 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 123–124; На английском: Solzhenitsyn A. How things are done in the Soviet provinces: letter to the editor // New York Times. 1974. 30 Sept. P. 34.]. Там ещё долго перебирали, больше месяца не печатали – а когда и напечатали, так что? Помогло ли это Светлане хоть чуть? И что с ней будет дальше? Долго мы этого не узнаем, или даже никогда…[52 - В 1991 узнал, письмо от неё: много мучили её, много преследовали, а уцелела. – Примеч. 1993.]
А тут – Ростропович, с обычной стремительностью, привёз ко мне австрийского кардинала Кёнига. Зачем? В чинной беседе кардинал объясняет мне неизбежность союза моего с католической Церковью в борьбе против коммунизма. Еле отдышиваюсь: да отпустите ж душеньку, не могу я разорваться.
А тут – после интервью Си-би-эс неудачливый в нём переводчик Дэвид Флойд, корреспондент «Дейли телеграф», стал теперь писать мне, и приезжал – и говорил, что другой мечты в своей жизни не имеет, как переехать бы ко мне и стать моим секретарём. Я отклонил. Тут он стал уговаривать встретиться с польским эмигрантом Леопольдом Лабедзем, который жаждет создать Международный трибунал, судить советских вождей.
Я уже пробыл в изгнании с полгода и понимал, что при всей моральной правоте и заманчивости такого Трибунала его невозможно создать вопреки силам, ветрам, течению истории: в отличие от нацизма – никто никогда не будет судить коммунизм, а значит, не собрать ни обвинителей, ни суда. Всё это мне было уже понятно – но имел я слабость согласиться на встречу: так трудно привыкнуть к полной свободе жизни и усвоить золотое правило всякой свободы – стараться как можно меньше пользоваться ею.
Встретились. (Флойд настоял присутствовать непременно.) Поговорили впустую. Сколько мог, я убеждал Лабедзя, что – не созрело, нековременно, сил не собрать, опозоримся. А он – горел и хотел меня видеть в главных организаторах и пригласителях. Я не согласился.
Разъехались ни на чём. Прошло месяца полтора – вдруг в западногерманском «Шпигеле» сообщение[53 - Der Spiegel. 1974. 18 Nov. № 47. S. 130–133.]: высланный с родины Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет – непосредственно делать политику, для этого он организует Международный трибунал против своей родины (!), Советского Союза. Солженицын планирует открытый показательный процесс от Ленина и, возможно, до Брежнева. Обсуждения состава уже начаты. Нобелевский лауреат первоначально имел идею: предоставить судейские места только пылким противникам режима, – но оставил её не в последнюю очередь под благодетельным влиянием своей супруги Наташи Дмитриевны.
Я – как ужаленный: ну что за гадство? Ну что такое эта пресса? Ну как можно жить среди этих чудовищ: ни слова правды!
Как раньше «Штерн» мне плюнул в лицо[54 - В разгар травли Солженицына в СССР гамбургский журнал «Штерн» напечатал полную искажений и вымыслов статью о родителях и дедах писателя (Steiner D. «Eine Familie von Flegeln…»: Krach um Alexander Solschenizyns Roman «August 1914» // Stern. 1971. 18 Nov. S. 104–110). Статью тут же перепечатала «Литературная газета»: Журнал «Штерн» о семье Солженицыных / [Послесл. ред.] // Лит. газ. 1972. 12 янв. С. 13. Реакцию Солженицына см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 313–315 (гл. «Нобелиана»), 677–681 (Прилож. 24).], так теперь «Шпигель», два сапога – пара. Мне – досадно, мне – позорно: и – невыполнимая же затея, и – разве этим я сейчас занят, разве не к одному писанию лежит душа? Но теряю время, теряю спокойствие – теперь надо отмываться, оправдываться. Прошу Хееба написать в «Шпигель» протест, требовать опровержения. Он пишет что-то маловыразительное. Через день же с искровой быстротой приходит ответ ему от главного редактора Рудольфа Аугштайна: «Мы в состоянии доказать перед судом, что ваш мандант проводил такие собеседования, которые не могли остаться тайными и представляют мировой интерес. И никогда мы не сделаем опровержения тому, что считаем истинным. Спор об этом не послужил бы на пользу Вашему манданту и самому делу. Мы не видим основания для гнева Вашего манданта, тем более что он уже совершал тяжелейшие ошибки, даже такие, которые могли быть без труда избегнуты». Не понимаю, о чём и говорит, но тон угрозы по грубости – не легче советского. «Мы не разрешим Вашему манданту диктовать нам, что правда, а что неправда».
Даже нельзя понять источник такой накопленной ненависти – что я им сделал? чем поперёк дороги? И вот что ж – хоть иди на суд! Готов. Хоть с этого начинай западную жизнь, тьфу!
Написал резкий ему ответ, доводя до самой грани столкновения[см. здесь (#litres_trial_promo)].
И редактор Р. Аугштайн очнулся (может – проверил своего информанта, а тот попятился) – и в следующем номере «Шпигеля», явно отступая, напечатал моё письмо – и в русской копии, и в немецком переводе, – таким образом всё было сказано моим языком и в самых сильных выражениях. (Сохраняя лицо, он добавлял, что если я буду требовать опровержения – а теперь зачем? – то он «сделает соответствующие шаги».) При моей неспособности вести тяжбу, найти время – я считаю, что этот конфликт кончился очень благополучно. А мог бы ещё сколько помотать душу, совсем отрывая от работы.
Этот конфликт я выиграл, можно сказать – по неопытности: я ещё не понимал, как от небывалой обретенной свободы вполне можно сбиться и на суды. Вскоре за тем получив сведения, что в Италии готовится публикация моих фронтовых писем к первой жене (они все остались у неё), и даже факсимильная, и не считаясь, что я жив, – я неосторожно дёрнулся к суду, привёл в движение адвоката. Но первичный итальянский суд признал, что печатать письма без разрешения – можно! Адвокаты заманивали меня вести юридический процесс дальше – но тут я очнулся. В моём положении проще заявить вслух и не судиться [см. здесь (#litres_trial_promo)]. (От этой публикации отказались ли все издатели, или само КГБ потом: в моих письмах слишком многое свидетельствовало и в мою пользу, а гебистам нужен был эффект односторонний.)
Конечно, все мои колебания между страстью тихого писания и страстью к политическим выпадам – они в моём темпераменте, без того я не попадал бы на такие разрывы. И всё же считаю, что я на Западе справился, не поддался политическому водовороту. (Впрочем – это скорей по инстинкту, а я тогда ещё не соразмерял ясно, насколько ничтожны физические силы наши и объём времени – против всего Несделанного.)
Тем летом утверждался в Берне созданный мною Фонд, всё это шло через Хееба, я и поселе не имел времени вникнуть в его действия. Сперва – благополучно и быстро утвердили, и название: «Русский Общественный Фонд». Но вскоре, видимо, чьи-то чиновничьи души зажал страх: ведь такое название – это не вызов ли Советскому Союзу? не намёк ли здесь, что русские общественные дела текут как-то помимо советского правительства? Нет, название недопустимое. «Фонд помощи политзаключённым», предложили мы. – Ни в коем случае! Слово «политический» неприемлемо для нейтральной Швейцарии. И потянулась торговля. Кое-как убедили мы, пусть так: «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям». (Название обреза?ло культурные и созидательные задачи Фонда, но в Уставе они есть. Пока сидим за границей – пусть звучит так, что поделать?)
К осени – всё же потекла у меня работа в Штерненберге. Радость какая, я больше всего и боялся: а вдруг за границей – да не смогу писать?
Не тут-то было! В сентябре 1974 Владимир Максимов звонит мне тревожно в Цюрих. Передатный звонок Али застиг меня в Штерненберге в тихий осенний день, когда так хорошо работается, – просит моего заступничества Сахарову: Жорес в Стокгольме назвал Сахарова «едва ли не поджигателем войны» и возражал против Нобелевской премии мира ему. На свой личный бы ответ Максимов не полагается, а, мол, только мой голос может быть услышан, и т. д. Как всегда, в таких поспешных нервных передачах и нервных просьбах отсутствует прямая достоверность, отсутствует текст, стенограмма – да когда их добудешь? – а вот надо протестовать! помогите! ответьте! за смысл – мы ручаемся! (А всё вздул стокгольмский член НТС, и вполне возможно, что с перекосом.)
Ах, как больно отрываться от работы! Но и – кто же защитит Сахарова, правда? После прежних подножек Сахарову от братьев Медведевых – сразу верится, что и эта – произошла, так. В действиях этих братьев, правда, элементы спектакля. Рой остался в Союзе как полулегальный вождь «марксистской оппозиции», более умелый в атаке на врагов режима, чем сам режим; а Жорес, только недавно столь яркий оппозиционер и преследуемый (и нами всеми защищаемый), – вдруг уехал за границу «в научную командировку» (вскоре за скандальным таким же отъездом Чалидзе, с того же высшего одобрения), вослед лишён советского паспорта – и остался тут как независимое лицо; помогает брату своему захватывать западное внимание, западный издательский рынок, издавать с ним общий журнал и свободно проводить на Западе акции, которые вполне же угодны и советскому правительству. Да братья Медведевы действовали естественно коммунистично, в искренной верности идеологии и своему отцу-коммунисту, погибшему в НКВД: от социалистической секции советского диссидентства выдвинуть аванпост в Европу, иметь тут свой рупор и искать контактов с подходящими слоями западного коммунизма.
Роя я почти не знал, видел дважды мельком: при поразительном его внешнем сходстве с братом-близнецом он, однако, был малосимпатичен, а Жорес весьма симпатичен, да совсем и не такой фанатик идеологии, она если и гнездилась в нём, то оклубливалась либерализмом. Летом 1964 я прочёл самиздатские его очерки по генетике (история разгула Лысенки) и был восхищён. Тогда напечатали против него грозную газетную статью – я написал письмо ему в поддержку, убеждал и «Новый мир» отважиться печатать его очерки. При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же он помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским, моим бутырским сокамерником; ему – Жорес помогал достойно получить заграничную генетическую медаль; моим рязанским знакомым для их безнадёжно больной девочки – с изощрённой находчивостью добыл новое редкое западное лекарство, чем расположил меня очень; он же любезно пытался помочь мне переехать в Обнинск; он же свёл меня с западными корреспондентами – сперва с норвежцем Хегге, потом с американцами Смитом и Кайзером (одолжая, впрочем, обе стороны сразу). И уже настолько я ему доверял, что давал на пересъёмку чуть ли не «Круг-96», правда, в моём присутствии. И всё же не настолько доверял, и в момент провала моего архива в 1965 отклонил его горячие предложения помогать что-нибудь прятать. Ещё больше я его полюбил после того, как он ни за что пострадал в психушке, я тогда публично выступил в его защиту[55 - Текст в защиту Ж. Медведева был подхвачен самиздатом, широко печатался в западной прессе: «Безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача… крутят ему руки и везут в сумасшедший дом… Раз думаешь не так, как положено, значит, ты ненормальный! <…> А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в своё время не тронули пальцем – и то мы клянём палачей второе столетие» (Вот как мы живём (15 июня 1970) // Публицистика. Т. 2. С. 39–40.) Также см.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 661, 662 (Прилож. 14); Solzhenitsyn assails detention of Medvedev in Mental Hospital // New York Times. 1970. 17 June. P. 1.]. Защищал и он меня статьёй в «Нью-Йорк таймс» по поводу моего бракоразводного процесса, заторможенного КГБ[56 - Medvedev Zh. In defense of Solzhenitsyn // New York Times. 1973. 26 Febr. P. 31.]. А когда, перед отъездом за границу, он показал мне свою новонаписанную книгу «10 лет после “Ивана Денисовича”»[57 - Медведев Ж. А. 10 лет после «Ивана Денисовича». London: Macmillan, 1973.], он вёз её печатать в Европу, – то, хотя книга не была ценна, кроме как ему самому, я не имел твёрдости запретить ему её. (Вероятно, допускаю, я тут сказал ему какое-то резкое слово о Зильберберге, что знать его не знал и не поручусь, что? это за личность, – Жорес грубо вывел его в книге так, что Зильберберг будто сам навёл на мой архив и тем заработал отъезд за границу, я никогда такого не предполагал, – но затем Жоресу пришлось в Англии выдержать стычки с Зильбербергом, смягчать текст, а пожалуй, всем тем – и подтолкнуть Зильберберга на его пакостное сочинение[58 - Зильберберг И. Необходимый разговор с Солженицыным. Forest Row (Sussex), Colchester: [б. и.], 1976.].) И наши общие фотографии Жорес спешил печатать, и мои письма к нему, и пригласительный билет на нобелевскую церемонию, с подробным планом, как найти нашу московскую квартиру, – от западной безпечности потерял голову сразу.
Затем вскоре стали приходить от Жореса новости удивительные, да прямо по русскоязычному радио, я сам же в Рождестве-на-Истье прямыми ушами и слушал. Вот, по поводу сцены отобрания у него советского паспорта ответил корреспонденту по-русски, я слышал его голос, на вопрос о режиме, господствующем в СССР: «У нас не режим, а такое же правительство, как в других странах, и оно правит нами при помощи конституции». Я у себя в Рождестве заёрзал, обомлел: чудовищно! Вот так эволюция! Тогда вскоре, осенью 1973, я имел оказию отправить ему письмо по «левой» в Лондон и отправил, негодующее. (Признаться, я не знал тогда, а надо бы смягчить на то: у Жореса остался в СССР сын, притом в уголовном лагере.)
Перешвырнуло меня на Запад – Жорес из первых стал называться приехать в Цюрих, и даже в первые дни. Я отклонил. Личные отношения не возобновились. И вот теперь – свидетельствует Максимов – он напал на Сахарова.
И я – сгоряча ввергаюсь ещё в одну передрягу: написать газетный ответ Жоресу на не слышанное и не читанное мною выступление[59 - Достойный истолкователь (11 сентября 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 125–127.]. Только потому я писал не колеблясь, что знал, в какую сторону Жорес эволюционировал все эти месяцы.
А всё тот же Флойд берётся поместить в «Таймс». Я пишу в Штерненберге, Аля шлёт телефонами в Лондон – проходит день, второй, третий – что-то застряло, новые волнения, новые перезвоны, вдруг заявление появляется в «Дейли телеграф» в ослабленном, искажённом виде, – значит, уже в «Таймсе» не будет, почему? «Таймс» опасается слишком прямых выражений о Ж. Медведеве, которые могут быть опротестованы через суд.
И надо сказать, что «Таймс» почувствовала верно. Жорес и через норвежскую «Афтенпостен», и прямо мне отвечал: что при его выступлении не было ни магнитной, ни стенографической записи, дословно он не говорил так, как ему приписывается, но даже и в приписываемом нет «вклада Сахарова в дело разжигания войны» – как я написал в статье на основе взбалмошной информации от Максимова. Так что, по западным правилам, Жорес вполне мог и судиться. Но правоты-то всё равно за ним не было, и он не решился. Да ведь так же он и отрицал, будто говорил для радио: «У нас в СССР не режим, а такое же правительство, и управляет нами на основе конституции», – но я-то слышал своими ушами!
Вот в таких издёргах проходит первое лето на Западе, я выкраиваю себе недели поработать в горах – и не догадываюсь, что тем временем адвокат Хееб всё безнадёжнее запутывает мои дела, – мне невдомёк поинтересоваться и доспроситься.
Тем временем на английском, на итальянском, на испанском, не говоря о греческом, турецком и других, неумелые переводческие перья безнадёжно портят или испакощивают мои книги – а мне этой проблемой некогда заняться: переводы? А что ж для писателя в моём положении важнее?
Ещё неожиданностью для меня было, какую бурю вызвало «Письмо вождям» в образованщине: и понимал я, и всё ещё не понимал глубину начавшегося раскола в отечественном обществе. «Письмо» моё бранили резко, страстно – и это было для меня свидетельством, что я сделал ход важнее, чем и сам думал, коснулся коренного. В самиздате составляли даже сборник критических статей, не знаю, печатали ли его когда-нибудь.
И в эмигрантской прессе шёл о «Письме» напряжённый спор, были и за и против. Так же неожиданно для меня выступил Михайло Михайлов[60 - Михайлов М. Своевременные мысли // Посев. Франкфурт-на-Майне, 1974. № 9. С. 33–40.], которого я не привык и считать участником русской жизни, но – «нашим» преследуемым союзником в Югославии, издали. А вот понятие «наши» сильно менялось и дробилось, – и Михайлов меня поразил просвечивающим сочувствием к марксизму (защищал от меня чистоту этой идеологии) и к эсерству. И «Письмо» моё объявлял антирусским и антихристианским (до сих пор обвиняли: слишком русское и православное). И всё это выносится из Сербии на мировую арену почти неправдоподобным тоном: «ну, так раз и навсегда надо [Солженицыну и его читателям] уяснить вот что», «Солженицыну не дано осмыслить собственный опыт», «ну что ж, придётся просто повторить то, что для европейской юридической мысли давно уже стало аксиомой»… И ещё более поразил Михайлов приёмами, которыми ведётся дискуссия: неоднократно подставляется вместо меня Владимир Осипов, а затем (ленинская ухватка) все его мысли валятся на меня вместе с «прокитайскими группировками, итальянскими неофашистами, эмигрантами-монархистами», и «Солженицын повторяет грех Ленина», и «Письмо» состоит из тех же частей, что «Коммунистический манифест». И чутко развивая намёк Сахарова: «Найдутся последователи и договорят, что Солженицын удержал про себя»…
О-го-го, какие же рогатые вырастают из славных отважных диссидентов!
А в начале октября вышел 1-й номер «Континента» – я вскипел от развязно-щегольской статьи Синявского, от его «России-суки»[61 - Абрам Терц [А. Д. Синявский]. Литературный процесс в России // Континент. Париж, 1974. № 1. С. 143–190.]. Увидел в том (и верно) рождение целого направления, злобного к России, – надо вовремя ответить, не для эмиграции, для читателей в России, ещё связь не была порвана, – и вот, сохранился у меня черновик, писал:
РЕПЛИКА В САМИЗДАТ. Как сердце чувствовало, оговорился я в приветствии «Континенту»: «пожелания нередко превосходят то, что сбывается на самом деле». Пришёл № 1. И читаем: «РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО…» Речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, и контекст не указывает на отклонение автора, Абрама Терца, от этой интонации. 10-летнее гражданское молчание прервано им вот для такого плеска?. Даже у блатных, почти четвероногих по своей психологии, существует культ матери. У Терца – нет. Вся напряжённая, нервная, острая его статья посвящена разоблачению «их», а не «нас» – направление безплодное, никогда в истории не дававшее положительного. Абрам Терц справедливо настаивает, что русский народ должен видеть свою долю вины (он пишет – всю вину) в происшедшем за 60 лет, – но для себя и своих друзей не чувствует применимости этого закона. Третьей эмиграции, уехавшей из страны в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй), уроженцам России, кто сами (комсоргами, активистами), а то отцы их и деды, достаточно вложились уничтожением и ненавистью в советский процесс, пристойней было бы думать, как мы ответим перед Россией, а не Россия перед нами. А не плескать помоями в её притерпевшееся лицо. Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таимой по условиям осторожности. Мы должны раскаиваться за Россию как за «нас» – иначе мы уже не Россия.
Не помню почему, но в Самиздат, в СССР, не послал. Вероятно потому, что подобное предстояло вскоре сказать при выпуске «Из-под глыб».
Но вот так – характерно чётко, уже на первых шагах, прорисовалась пишущая часть Третьей эмиграции, – и куда ж ей хлынуть, как не в открывшийся «Континент»? В следующие два-три года он станет престижным пространством для их честолюбивого ску?ченья, гула, размаха рук (и для такого, что невозможно тиснуть в первоэмигрантских изданиях). Впрочем, противобольшевицкую линию Максимов выдерживал вполне.
За август я преодолел опасную отвычку, отклон от «Колеса»: ведь с бурной осени 1973, в нарастающей тряске, я уже не работал с полной отдачей. В Штерненберге постепенно устоялось душевное настроение и мысли. Взял недоконченный «Октябрь», теперь так обогащённый цюрихскими ленинскими подробностями, это собиралось замечательно (и детали о цюрихских социалистах, и даже метеосводки по Цюриху за любой день октября 1916 или февраля 1917, не надо придумывать погоду), – так уткнулся в новую трудность. В предыдущие годы, планируя «Колесо» по Узлам и стремясь скорей прорваться к Февральской революции, я решился пропустить весьма-таки узловой, «узельный» август 1915: с катастрофическим отступлением русской армии, созданием буйного Прогрессивного Блока, его яростной атакой на правительство, уступательной перетасовкой министров и мучительным переёмом Верховного Главнокомандования царём, да там же и Циммервальдская конференция. А теперь, в октябре 1916, допущенный мною пропуск сильно давал себя знать: требовал вставки многих ретроспекций, и настолько сильно требовал, что я кардинально заколебался: да не вставить ли «Август Пятнадцатого»? Но стал смерять, сколько же других – исторических и личных – линий придётся перестраивать? нет, это ещё худший разлом. Остался при прежнем плане Узлов – и теперь готов был уверенно вести в «Октябре» сюжет о Ленине. А число возможных тут ленинских глав нарастало лавиной. (Увы, уже не существует тот ресторанчик «Штюссихоф», где заседал ленинский «Кегель-клуб», – ищем с Алей сходный другой ресторан, с такими же фонарями на деревянных столбах.)
Наконец осенью, после Штерненберга, мне кажется, что мы с женой заработали право четыре дня поездить по Швейцарии. Маленькая Швейцария, а для нас как огромная, мы нигде ещё не были, кроме той моей поездки с Видмером к Фурглеру.
По ровной части маршрута – опять на Берн, большой дорогой, затем на Лозанну и Женеву – мы поехали с Алей вдвоём с тем, что потом, через горы, нас поведёт Видмер. Переезд во французскую Швейцарию прошёлся по сердцу мягкостью: сразу как отвалилась та нахохленная чопорность, которую в Цюрихе мы уже и не замечали. Окру?га Берна и округа Женевы – как две разные страны, трудно поверить, что они в одном государстве. Женева – чем-то умягчает сердце изгнанника, вероятно, не так тяжело переживать здесь и годы. Поехали мы путешествовать, а головы были полны покинутыми заботами, и путешествие не казалось приятной реальностью, но какой-то сон. И в Лозанне, в приозёрном парке, бродили, как не понимая, будто ещё не совсем придя в себя от перелёта из Москвы, наши мысли и привычки не успевали за передвижением тел. Да все эти восемь месяцев мы как будто ещё и не жили нигде, ни к чему не прикрепясь, – а вот уже за океан собирались.
В Монтрё, на восточном берегу Женевского озера, почти на ощупь мы попали к замку Шильонского узника. Туда, после закрытия решётчатых ворот, не пустили бы нас – но немецкие экскурсанты узнали меня через ворота и стали со смехом кричать, что я – из их группы. За?мок на малом островке, внутренние каменные дворики, вот и цепь для приковки узника к стене, уж и не та и в том ли месте? – но отзывает зэческое сердце: как легко устраивается тюрьма, непроницаемая для одних, легко-прогулочная для других! В детстве по многу раз читал я все свои домашние книги, так и поэму Жуковского[62 - Имеется в виду «Шильонский узник» В. А. Жуковского (1822) – переведенная им романтическая поэма Дж. Байрона «The prisoner of Chillon» (1816).]. Как-то грезилось это всё намного мрачней, грозней, и волны не озёрные, – и вдруг невзначай вступаешь в грёзу, с комичным эпизодом непусканья. Эти жизненные повторы, всплывы, замыканья жизни самой на себя – до чего мы их не ждём, и сколько ещё встреч или посещений наградят нас в будущем. (В России бы!..)
В Монтрё же предполагалась встреча с Набоковым, однако, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтвержденья, мы ещё и с дороги проверяли звонком домой, в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.)
Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы – необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полое течение родится вослед ему.) Сетовал я, ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе – выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, – и отчего ж он – как и Бунин, как и Бунин! – не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как безценен был бы их труд, недоступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно, что? могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции – он уклонился от самой России.
Ещё из СССР в 1972 году я «по левой» послал письмо в Шведскую Академию: пользуясь правом лауреата, выдвинул Набокова на Нобелевскую премию по литературе[63 - …выдвинул Набокова на Нобелевскую премию… – Солженицын писал в Шведскую академию: «Присуждение премии Набокову, по моему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт Нобелевских премий. <…> Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовём гениальностью» (Шведской Королевской академии (12 апреля 1972) // Публицистика. Т. 2. С. 43–44).]. И самому Набокову послал копию при письме [см. здесь (#litres_trial_promo)]. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, – но ведь и родился и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий, – как же быть ему к ним равнодушным?
Когда я приехал в Швейцарию – он написал мне дружественно. И в этом письме было искреннее: «Как хорошо, что дети ваши будут ходить в свободную школу». Но, по свежести боли, покоробило меня. Я ответил, тоже искренне: «Какая ж это радость, если большинство оставшихся ходят в несвободную?»
Вот так бы, наверное, шёл и диалог между нами, если бы мы встретились в Монтрё. Русло жизни нашей глубеет с годами – и всё меньше нам возможностей перемениться, выбиться в иное. Окостенел на избранном пути он – да ведь и я костенею, мне бы тоже, ах, когда-нибудь испробовать руслом другим! А вряд ли когда удастся.
Дальше поехали мы долиной верхней Роны – невдалеке от Рарона был ещё один домик Видмеров, где и ждали они нас. Холодноватым солнечным вечером эта старинная долина с наслоенными вековыми цивилизациями, и античной и европейской, как бы вечно обитаемая, сколько вертится Земля, и каждый придорожный камешек, черепок, пенёк – свидетель веков и веков, – произвела величавое впечатление: неистираемая культура, не вовсе ушедшие предки, неуничтожаемая земля! (Вот например, в это – как хотелось бы! и когда? – мне окунуться?) На скале как крепостца стоит малая церковь, и подле стены её – отдельная, одинокая могила, вся в тёплом жёлтом за?ливе закатного солнца. Чья же? Мы с Алей были потрясены и награждены: Райнера Рильке! (Хотя умер он подле Монтрё.)
Благоговейно стояли мы, в долгом закате. Вот где привелось. Он выбрал себе эту долину и эту скалу – можно понять! Выбор могилы – когда он есть – он многое может выразить.
С Видмерами пошли навестить милейшего старого пастора, который когда-то их венчал. Переночевали в их строгом каменном доме такой старобытной и несогреваемой постройки: по кладке, по дугам, по выступам – ну веков пять ему, не меньше.
А дальше вёз нас твёрдыми руками Видмер – моего автомобильного опыта тут бы не хватило. По Швейцарии не так легко проложить маршрут, не всегда прокатишь прямо. Пришлось переваливать Симплон, там начался снег, ехать нельзя, машины скользят, все ждут. Привезли, насыпали на весь южный спуск песка, тогда поехали. Ниже снег превратился в проливной дождь. Въехали на несколько часов в Италию – всего лишь, чтобы пробраться покороче в южную часть Швейцарии. (А несколько дней оформляли визы на эти несколько часов; и итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф.) Через Домодоссолу проехали к Лаго Маджоре, на берегу его нас пригласили в частную староитальянскую виллу. (Тучевой мрачный день, полутёмные богато убранные комнаты, и хозяйка с дочерьми, угасающий знатный род, чувствовали себя обречёнными на конфискацию коммунистическим правительством, которое вот-вот всеми тут ожидалось. От тени коммунизма всё в вечной Италии казалось временным.) В тот день уже не видели доброго, лило и грязно, а наутро опять солнце – и мелькали, путаясь, Локарно, Лугано, – как видели их, и как не видели, Моркоте с возвышенным кладбищем над голубым озером, и назад на север, снова возвышаясь, Сен-Готард закрыт, машина вкатывается на поездную платформу, а на северном выходе из туннеля ещё поднимаемся выше посмотреть леденящий суворовский Чёртов мост, да в погоду холодную, мрачную, – незабываемо! На скале – выбито по-русски, выпуклые крупные буквы, старым стилем:
Доблестнымъ сподвижникамъ