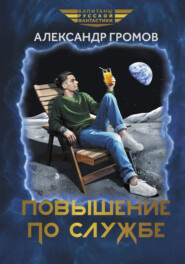По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Менуэт Святого Витта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сейчас я начну канючить, отвернитесь.
– Ну хотя бы скажи… было все это? То есть – будет? «Декарт», Стефан, Питер…
– И главное, дети, переставшие взрослеть?
– Да! Было?
Короткое молчание.
– Ну… было.
Гудки в трубке: ту-у… ту-у… ту-у…
Каша в голове. Геркулес с изюмом.
Ужаснусь я потом. А пока – радуюсь…
5
Лодка была длинная, из легкого блестящего металла, с хищно заостренным носом и узкой, ровно срезанной кормой. Когда-то в корме помещалась дюза маршевого двигателя, но потом дюзу сняли, двигатель выбросили за ненадобностью, горючее мало-помалу сожгли, начинку исследовательской ракеты одно время пытался использовать Уве для каких-то своих нужд, а пустой корпус распилили вдоль и получили две лодки. Одна разбилась пять лет назад на порогах Безумной реки, другая большей частью лежала кверху днищем под навесом внутри частокола, в повседневной жизни была не нужна и изредка приводилась в порядок для затеваемых Питером экспедиций, если таковые намечались по воде. Остойчивость лодки при полной загрузке оставляла желать, маневренность тоже, но ходкость была удовлетворительная.
Несмотря на умытый блеск металла, лодка была старая. Вмятины на корпусе, оставленные камнями порогов, были осторожно выправлены, загрунтованы, залиты самодельным пластиком, выровнены заподлицо с обшивкой и тщательнейшим образом отшлифованы и отполированы. Этой работы Питер не доверял никому – гнал всякого, кто осмеливался приблизиться с доморощенными советами. За время экспедиции на днище прибавилось несколько свежих царапин, но Питер считал их несущественными.
Ему хотелось считать их несущественными – так точнее.
Эту ночь всем троим пришлось провести под лодкой на голом, полого сбегающем к реке склоне, усеянном выпирающими из лишайника валунами. Выше начинался и тянулся за вершину холма чахлый полулес-полукустарник, но никто не выразил желания в нем заночевать. Питер все же сбегал до вершины и обратно, порыскал и, вернувшись, сообщил, что опасности нет. Двое младших – мальчик и девочка, – промокшие и вымотавшиеся за день, встретили это сообщение почти равнодушно.
Нужно было торопиться: еще час назад стало ясно, что надвигается дождь. Лодку втащили до половины подъема и, перевернув, закрепили камнями. С нижней стороны склона под бортом оставили лаз, а с верхней навалили земли и лишайника, чтобы дождевые струи не затекали под лодку. Когда огромный бледно-желтый диск упал за холмы на том берегу и в распадке вспыхнул и сгорел ослепительный зеленый луч, ночлег был готов, и Питер успел еще сбегать разведать следующий порог, а на обратном пути отыскал в ручье целую гирлянду водяных сосулек, и они съели их сырыми, потому что туча уже накрыла небо и блуждать среди кремнистых стволов в поисках горючего кустарника для костра было поздно. Сырые сосульки резко и неприятно пахли, и Йорис поначалу даже отказался их есть, несмотря на голод, но Питер рассказал, как однажды прожил на реке неделю, питаясь только сырыми сосульками, правда, чуть не умер, – тогда Йорис зажмурился и осторожно откусил первый кусочек. Сосулька зашипела и принялась извиваться. «Ешь!» – крикнул Питер, и Йорис, торопясь, проглотил свою долю. Насмешек он сносить не желал. Вера не привередничала. Она уже была один раз с Питером в экспедиции, и в тот раз тоже не хватило еды. Она молча радовалась, что Питер нашел сосульки, он молодец, всегда что-нибудь найдет, сосульки еще не самое худшее, они ничего, только после них щиплет во рту и нельзя сразу пить, плохо будет… Дождь пришел вместе с яростными порывами холодного ветра, тогда Питер вынул два оставшихся химпатрона для спальных мешков и отдал их Вере и Йорису. Уже лежа под лодкой – Питер в носу кокпита, Вера посередине, а Йорис под кормой, – они поговорили о том, откуда идет этот дождь, и Питер сказал, что, должно быть, теплое течение на севере уже размыло шельфовый ледник и теперь там море, но чтобы это проверить, нужно как минимум туда добраться. «Полторы тысячи километров?!» – с ужасом и восхищением спросил Йорис. «Чуть больше, – подумав, сказал Питер. – Но в пределах возможного».
Он почти не спал в эту ночь, потому что для него не осталось ни одного химического патрона. Слыша, как по днищу лодки лупит дождь, Питер думал о том, что завтра, если повезет, он будет спать в тепле; эта мысль долго не отпускала его, но совсем не грела. Тогда он прогнал ее и стал думать о том, чем все это должно кончиться. Четырнадцать экспедиций только за последние восемь лет… нет, даже пятнадцать, если считать ту, неудавшуюся, в самом начале, когда утонула Астхик и все, ну почти все пришлось начинать сначала, заново доказывать сначала себе, а потом всем остальным то, что ясно без всяких доказательств.
Впервые им удалось так далеко забраться на север. Почти на триста километров, если считать по прямой. По рекам и ручьям, разумеется, выходило больше. Перед водоразделом пришлось оставить лодку и дальше двигаться пешком, потому что удобный волок, тщетно разыскиваемый прежде, не был найден и теперь. Обратно на водораздел вышли почти без сил от усталости и голода, но результаты экспедиции того стоили.
На сей раз он взял с собою этих двоих. Он мог бы взять и четверых – в кладовке «Декарта» хранились еще два спальных мешка, а Диего обещал подзарядить еще десяток химпатронов, – но четверых работников сразу Лоренц не отпустил бы ни при каких обстоятельствах.
Дождь сменился мокрой крупой. Питер по звуку чувствовал, как на днище лодки нарастает ледяная корка. Он немножко помечтал о том, чтобы наконец пошел настоящий снег, навалил сугроб и стало тепло, но снег обманул, как обманывал всегда, снова забарабанили капли, и тогда Питер, пытаясь отвлечься, начал рисовать в уме карту этих мест – безымянная река с безымянными притоками, петли, развилки, протоки, острова… Он шел от устья вверх, к истокам. Змеящиеся притоки отнимали у реки воду, и синяя нить сужалась. Вот она запетляла в болоте – там много старых проток, почти сухих, и, наверно, река каждый год промывает в торфяниках новое русло. Питер вносил поправки. Вот крупный левый приток, он исследован дважды, нет там ничего интересного… Ряд коротких черточек поперек синей нити – цепочка порогов в верхнем течении. Целая сеть притоков, как разлапистая пятерня, разбегающаяся пальцами к водоразделу, – и не скажешь сразу, где собственно река, а где притоки. Вот этот, крайний, совсем не исследован – судя по карте, он ведет в маленькое болото, питаемое, скорее всего, грунтовыми водами. Поэтому опять неинтересно, зато от второго справа притока, где завал из незнакомых деревьев, которые как бочки, и очень неудобный обнос, отходит любопытный ручей, вероятно доступный лодке при высокой воде. Хорошо бы дождаться паводка, чтобы подняться по ручью прямо к водоразделу… сидеть и ждать затяжного дождя, и чтобы пища была, и тепло, а Стефана не было, и каждый вечер ходить смотреть надоевший зеленый луч…
Глупости. Никому это не нужно.
Питер улыбнулся, услышав, как Йорис мучительно простонал во сне. Парнишка еще не понял… А вот Вера догадалась, она сообразительная. Результаты экспедиции не в нескольких нанесенных на карту ручьях и болотцах, хотя и это важно. Главный результат – вот он, лежит под боком и, кажется, даже греет – две прозрачные фляжки с темной маслянистой жидкостью. Йорис не понял, что они означают, а Лоренц поймет сразу. Он чует опасность издалека, как осторожный зверь.
Уже скоро, Стефи. Немыслимо больше ждать.
К утру он сильно замерз и выполз из-под лодки. Светало. Туча ушла. Дождь кончился совсем недавно, стылая земля была пропитана ледяной влагой. Ляская зубами, Питер заставил себя отбежать метров на сто вверх по склону и там заплясал, запрыгал, заколотил окоченевшими ладонями по бедрам и заду. Сейчас он ничем не напоминал привычного всем Питера, а был похож просто на продрогшего до костей мальчика, каковым являлся в действительности, и отчетливо сознавал это. Он напряг мышцы, тихонько зарычал, силясь унять дрожь и ненавидя себя за нее. Оглянулся. Его не должны были увидеть в таком состоянии, и его не видели: младшие спали, а значит, можно было немного пожить простыми желаниями. Он быстро справил нужду, бегом перевалил через холм – бегом, скользя в промоинах, спустился в распадок – повернул – бегом понесся вверх – повернул – опять бегом вниз. Мокро блестели седые валуны, попадались кости вымерших животных, давно обглоданные лишайником и выбеленные. Лес был как лес: кремнистые несгораемые деревья, сумев как-то выжить, перестали расти и завязались узлами. Листьев на деревьях почти не было. Хилый горючий куст, запустив под валуны жесткие корни, целился в небо прямыми в струнку ветвями. Хвоя на нем не росла, а та, что росла когда-то, пошла на корм лишайнику, однако куст был жив и даже затрепетал при приближении человека, словно пытаясь выкопаться из земли и удрать. Наверно, чувствовал, что пойдет в костер. Питер усмехнулся: куст чувствовал правильно.
Вверх. Бегом. Вниз. И еще раз так же. Ему пришлось трижды спуститься с холма и трижды подняться, пока он не ощутил возвращающееся в мышцы тепло. Напоследок не утерпел: взял короткий разбег и с криком «йо-хо-о!» крутнул переднее сальто. Дрожь унялась, теперь Питер чувствовал себя в порядке, и даже приступ острой ненависти к Стефану, нежащемуся в тепле, прошел и сменился предчувствием удачи и спокойной уверенностью в своих силах. Он едва не рассмеялся. Сегодня. Это будет сегодня, Лоренц. Если повезет – сегодня к вечеру. Что, Лоренц, не ждал? Хочешь, очень хочешь ты, чтобы я не вернулся, и у тебя еще есть шанс, ты еще можешь надеяться на последний порог и водяного слона на озере – но я ведь и в этот раз вернусь, Лоренц. Ты же понимаешь, что я вернусь.
Очень скоро он нашел то, что искал, – смолистый корень, спрятавшийся в лишайнике. Корень был большой, толщиной в руку взрослого человека, – строго говоря, корень не был корнем, а был самостоятельным организмом, паразитирующим на лесной подстилке, не то растением, не то животным, однако в костре он горел превосходно, а большего от него не требовалось. Радуясь удаче, Питер выкопал корень руками. Как бы ни промокли ветки горючего кустарника, костер теперь будет, а значит, можно будить Йориса и Веру…
Он поднял глаза и мысленно охнул. Прямо на него шел белый клоун. Еще несколько отставших кривляющихся фигур, торопливо поднимаясь из распадка, настойчиво лезли вверх по склону. Питер бросил корень.
Запах человека необъяснимо притягателен для белого клоуна. Этой загадки так и не удалось разрешить: человек не являлся добычей белого клоуна; если человек не бежал, клоун жадно тянулся к нему, выбрасывая ложноножки, прилипал к человеку, обволакивая его только лишь для того, чтобы через секунду отклеиться и побрести дальше. Побрести – или потечь? Ног у клоунов не было, но перебирание ложноножками карикатурно походило на ходьбу, и сами клоуны издали карикатурно походили на человека. Убить их ножом или стрелой было невозможно. Однажды Маргарет, единственная из всех, кого клоуны интересовали профессионально, высказала предположение, что их бесскелетные студенистые тела суть вовсе не тела в обычном понимании этого слова, а живые коллоидные сгустки, структурируемые собственным магнитным полем. Так это было или не так, никого особенно не интересовало. Гораздо актуальнее было то, что на теле человека, не успевшего увернуться от объятий белого клоуна, оставались долго не заживающие ожоги.
Шрам на подбородке Питера был следом ожога более чем тридцатилетней давности, памятью о том, как он уводил белого клоуна от группы малышей, оказавшихся слишком далеко от частокола. Он тогда застрял в зарослях и был настигнут. Кожа стянулась и изменила цвет. На руках тоже были шрамы. Такие шрамы были на руках у всех, исключая немногих счастливцев вроде младенца Джекоба. Даже у Лоренца они были.
Питер молниеносно окинул взглядом бугорок, обозначающий перевернутую лодку. Нет, белые клоуны не почуяли младших. Еще не почуяли. Пока что они шли мимо и для таких увальней очень быстро, со скоростью бегущего вялой рысцой человека. Их было много.
На открытой местности человеку, как правило, нетрудно уйти от белого клоуна. Нужно заманить его подальше – если человек не очень спешит, клоун идет за ним как привязанный, – а потом убежать от него, сделать большой круг и вернуться. Клоун не вернется, он быстро потеряет след, а вместе с ним интерес к человеку. Труднее уйти от стада, но тоже можно. Хорошо, что клоуны чаще бродят в одиночку. Хорошо, что на этой планете летаргическая жизнь дала так мало подвижных опасных тварей и ни одной неподвижной опасной твари, если не считать того пня, который оказался не пнем… Но и он сжимал челюсти так медленно и робко, что можно было еще раз-другой сесть на него и успеть встать. Пожалуй, опасные виды фауны можно пересчитать по пальцам. Клоуны. Болотные черви. Вонючие крылатые гарпии. Водяной слон. Цалькат. Человеку в лесу нечего дрожать перед зверьем: если он не ранен и не дурак, он не будет съеден. Однако и пищи себе не найдет, это точно. Сосульки годятся лишь на то, чтобы обманывать голод, да поди их еще найди…
Его почуяли. Крупный, в рост взрослого человека, клоун, шедший прямо на него, ускорил движение. Другой, который должен был пройти мимо, вдруг запнулся на ходу, зашевелил отростками и уверенно свернул к Питеру. Белый клоун способен почуять человека шагов с десяти-пятнадцати, независимо от направления ветра. Наверное, Маргарет права: клоуны ориентируются не по запаху, а по окружающим человека слабым электромагнитным полям.
Первого клоуна Питер подпустил на два шага. Потом отскочил, метнулся вбок, обманывая, выждал секунду, прислонившись спиной к дереву, и подставил вместо себя корявый ствол. Краем глаза успел заметить еще двоих – те заходили справа, и один из них шутя протек сквозь горючий куст, нимало при этом не замешкавшись. Серьезной опасности пока не было: с тремя-четырьмя клоунами Питер мог играть в догонялки часами. Но сейчас он должен был привлечь внимание всего стада.
Ий-о-хо-о!.. Он рванулся с места, как спринтер, в самую гущу стада и заметался зигзагами по склону холма. Ноги путались в лишайнике, а один раз Питер споткнулся о камень. Теперь клоуны были со всех сторон – спешили догнать, обтечь, ощупать человека жгучими отростками, попробовать на вкус, и надо было петлять, уворачиваться, сбивать с толку, не давать окружить себя плотным кольцом – а потом, если повезет, выскочить из стада и увести его как можно дальше. Вот, сейчас… Нет, еще рано. А вот теперь пора. Йо-хо-о!..
И все получилось бы, если бы ночью не прошел дождь, если бы на обманном финте нога не заскользила бы так неожиданно, если бы только удалось удержаться на ногах и почва именно в этом месте не выперла из лишайника каменный обломок, угодивший прямо в солнечное сплетение, – а когда пропала тошнотная чернота перед глазами, вернулось дыхание и Питер почувствовал, что снова способен вскочить и бежать, нужно было уже не бежать, а укрываться: кривляющееся кольцо вокруг него сомкнулось, оно было похоже на студень или медузу, в нем не было ни единого просвета, и оно сжималось.
Питер скорчился, прижался к лишайнику, пряча руки под тело, вжимая шею в воротник драной куртки. Лишайник шевелился, щекотал лицо. Было досадно, что так не повезло. Теперь-то, конечно, обожгут… затекут под одежду и обожгут хуже кипятка… придется потерпеть… Он негромко и скверно выругался. Ну и обожгут, подумал он с ожесточением, пусть жгут, подумаешь – ожог, не барышня, да и не в первый раз, уж как-нибудь перетерпим…
Сжавшись, он считал секунды. Глупые твари, самые глупые на этой планете, если не считать трясинных черепах на болотах, слишком тупые для разумения человека и оттого непредсказуемые. Может, они не могут договориться, кто в кольце главный?..
Он рискнул поднять голову и присвистнул от удивления. Кольца уже не было, оно распалось; клоуны, кривляясь пуще прежнего, уходили кто куда, но по преимуществу вверх по склону, мимо лодки. Разбегаются, с недоумением подумал Питер. Разбегались… Чего для? Он еще успел обрадоваться удаче, но тут же осмотрелся и понял, что до удачи далеко и радоваться рано, а бежать, напротив, поздно.
Клоуны не просто уходили – они спасались. С самого начала стадо бежало от хищника, и лишь запах человека сбил стадо с толку, на время пересилив инстинкт самосохранения. Преследователь был хорошо виден и знаком – бродячую паутину не заметишь разве что в сумерках, и тогда она тебя схватит, зато сейчас, в первых лучах солнца, она сверкала всеми радужными нитями. Она была просто нарядна и двигалась с легчайшей воздушной грацией, закидывая невесомые нити на грубые замшелые стволы, стремительно подтягиваясь, выбрасывая новые нити, и нити падали сверху вниз, разрастались, ветвились и снова втягивались, паутина словно бы катилась, было в ней что-то от морского ежа и перекати-поля одновременно. Клоун, отставший от стада, был схвачен и задергался, тщетно пытаясь протечь сквозь паутину. Через секунду он был оплетен и обвис. Питер знал, что паутина на этом не успокоится: схватив одного, она обшарит пространство радиусом в несколько десятков шагов в надежде поймать кого-нибудь еще, длина нитей это позволяет, а потом она подтянет к жертве коричневый белоглазый сгусток размером с кулачок младенца Джекоба – по сути, пищеварительный и нервный центр хищника – и замрет, высасывая. Неделю будет сосать. Две…
Питеру случалось на спор убивать «паука» выстрелом с пятидесяти шагов, и сейчас он пожалел о луке, оставленном в лодке. Бродячая паутина намного опаснее белого клоуна. Как ни странно, она не любит путешествовать по вертикали, предпочитая обходить препятствия, а не переваливать через них, и частокол вокруг лагеря поставлен не зря. Можно также с надеждой на удачу забраться на высокое дерево. А на открытом месте первая и главная заповедь настигнутого паутиной: не шевелись. Замри. Тебе может повезти: паутина хватает тех, кто движется, она полагается прежде всего на зрение. Правда, на осязание тоже, и еще она чувствует температуру ощупываемого предмета, так что шансы остаться необнаруженным пятьдесят на пятьде…
Ноги опутало сразу же. Рвануло, повалило. Питер яростно резал нити, они пружинили и пищали под ножом и рвались с натужным дребезжаньем лопающихся струн, но их было много, и все новые и новые путы хищно тянулись к человеку, к законной и лакомой добыче, – будто человек с сорокалетним опытом жизни на этой планете мог позволить себе быть добычей! – радужные жгучие бичи хлестали справа и слева, тонкая живая проволока закручивалась вокруг тела, падала сверху на голову, ползла к шее… Десятки, сотни сверкающих нитей. Паутина была в ярости: ей еще не попадалась жертва, вооруженная стальными когтями.
Натянулось, просекло кожу… Потащило. Захлестнуло правую руку – Питер не глядя перебросил нож в левую. Он ждал. Неожиданно для себя он обнаружил, что совершенно спокоен. Теперь он защищал только шею и руку с ножом, предоставив паутине оплетать остальное коконом. Он ждал и терпел боль. Он умел терпеть и ждать. И когда паутина, вспахивая его телом лишайник, доволокла его туда, куда ей хотелось, и на расстоянии вытянутой руки он увидел покачивающийся над ним безобразный коричневый комок с тонким дрожащим хоботком в проеме распахнувшихся зазубренных жвал, он, перерезав мешающие нити, хладнокровно и точно, как делал не раз прежде, всадил нож в промежуток между жвалами и парой отвратительных выкаченных глаз…
Ему не сразу удалось освободиться – некоторые нити были еще живы, старались вырвать нож. Белых клоунов на холме уже не было, кроме одного, схваченного. Питер оставил его в покое – еще оживет, увяжется… Горючий корень был на месте – не уполз, дурак. Питер хмыкнул: хоть в чем-то повезло. Теперь ничто не мешало развести костер, вскипятить в котелке воду на завтрак и разбудить Йориса и Веру…
6
– А, это ты, – сказал Стефан. – Входи. Можно.
В дверь просунулась лапа в бугристых наростах кожной болезни, которую давно отчаялась вылечить Маргарет. Затем явилось лоснящееся лицо-блин с коротким носом-обрубком, и следом – брюхо наперевес – вкатился сам Анджей по прозвищу Пупырь, по-утиному переваливающийся на коротких тумбах. Можно было подумать, что, если его толкнуть, он встанет вроде неваляшки. Всякого другого Стефан сейчас с удовольствием выгнал бы вон, да и вообще не дело посторонним торчать в ходовой рубке, но как раз Анджей посторонним не был. Когда он не занимался прямыми наблюдениями, его рабочее место помещалось здесь.
Стефан остался сидеть. Кресло сейчас по праву принадлежало Анджею, но если этот пухлый слон заполнит его своим могучим задом и уронит кошмарные лапы на пульт, толку от него уже не допросишься. Стефан изобразил улыбку. Ему в самом деле было приятно, что Анджей и сегодня пришел работать рано, еще до сигнала общего подъема. Редкий трудяга, все бы так.
– Как дела? – спросил Стефан.
Как у Анджея дела, было видно невооруженным глазом. Зато Анджей теперь мог вооружить только один глаз – второй заплыл.
– А ну, повернись к свету, – приказал Стефан. – Та-ак. Били?
Анджей виновато развел руками: били, мол, ничего не поделаешь.