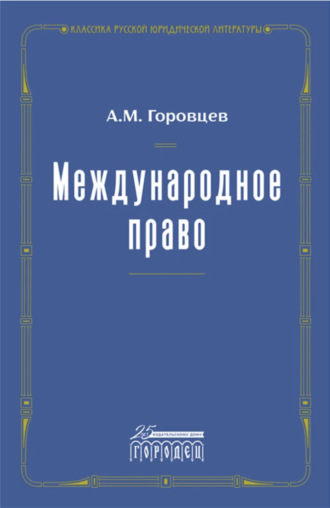
Международное право
Drittes Kapitel. Die internationale Stromgesezgebung im Einzelnen
Ss. 327–378. §§ 74–80
Следующей, третьей главе, содержание которой составляет изложение международного речного законодательства в частностях, предпослано автором особое введение (§ 74), посвященное обзору и критике действующих актов этого законодательства. По мнению Каратеодори, допущенная в Венском акте оговорка о свободе судоходства «в отношении торговли» является источником отметившего дальнейший период развития речного права реакционного характера, выразившегося, главным образом, в стремлении ограничить применение принципа свободы судоходства лишь областью интересов прибрежных государств; только конвенции 1839 года относительно Шельды и 1849 года относительно По открыли собою ряд актов, в которых нашел себе твердое признание принцип общей свободы судоходства по международным рекам (в 1856 г. по Дунаю, в 1868 г. по Рейну, в 1885 г. по Конго). Принимая во внимание те различные течения в области речного права, которые до последнего времени задерживали его развитие и лишали его единого, определенного характера, Каратеодори высказывается за желательность авторитетного объединения речного права путем международной его кодификации, а также и за учреждение особого международного судебного органа для разрешения всех могущих вызывать сомнение вопросов речного права. При этом автор определяет, со своей стороны, следующие начала, которые должны быть, по его мнению, положены в основание кодификации речного права: полное уравнение всех флагов; свобода судоходства, не исключая и большого и малого каботажей; свобода судовых грузов от пошлин во время плавания; воспрещение всяких сборов, связанных с самым фактом плавания; полная свобода транзитной торговли; отмена всякого санитарного контроля при нормальных условиях; идентичное регулирование технических требований речного управления; единая организация управления для всего судоходного протяжения рек; признание нейтральности судоходства в военное время.
Самое изложение актов, регулирующих судоходство по международным рекам, разделено автором на особые отделы по частям света, которым эти реки принадлежать, в следующем порядке: реки Европы, реки Америки и реки Африки.
В числе первых автор сначала рассматривает положение Рейна (§ 75), затем тех рек, плавание по которым регулируется конвенциями, заключенными между прибрежными государствами (§ 76), (немецкие – Эльба, Везер, Висла, Одер, Неман, Варта, Эмс, Лан, Майн, Мозель, Некар, Траве, Инн, Зальцах, Заале; остальные европейские реки – По, Дуэро, Тахо, Прут); далее – Шельды и Мааса (§ 77), и, наконец, Дуная (§ 78). Изложение носит здесь почти исключительно фактический характер, представляя особую ценность в отношении ссылок на первоисточники, в которых можно найти самые тексты актов. В этой части работы Каратеодори, излагающей историю применения к отдельным рекам приведенных выше общих начал речного права, можно отметить приводимое автором относительно р. По замечание о том, что и с объединением Италии эта река, несмотря на то, что она перестала быть международной в собственном смысле этого слова, осталась открытой для всех флагов; относительно Дуная автор выясняет в особенности значение установления обще-европейской комиссии, как первого в этом смысле проявления поступательного развития начал Венского акта; автор находит неправильным отказ Румынии допустить включение в состав нижне-дунайской комиссии неприбрежное государство – Австро-Венгрию, тогда как в действительности, по мнении Каратеодори, титулом участия Австро-Венгрии в комиссии следует считать не значение ее в качестве прибрежного или неприбрежного государства, а то полномочие, которое она получила в данном случае от всех других государств, которым, в сущности, и должно принадлежать на основаниях общности, а никак не одним лишь прибрежным государствам, право участия в управлении всей рекой, вне всякой зависимости от того или иного национального характера ее отдельных частей. Из числа американских рек (§ 79), Каратеодори упоминает о Миссисипи, находящейся, по его мнению, в исключительной собственности С. Штатов, так как постановление договора 1783 года о свободе судоходства по этой реке не было включено в последующий Гентский трактат 1814 года; о р. Св. Лаврентия, открытой в нижнем своем течении англичанами, лишь после долгих споров с С.-Штатами, для плавания судов последнего государства по договору 1854 года; о р. Ла-Плата, открытой Аргентиной по договорам 50-х годов, также после долгих споров с соседними государствами и заинтересованными европейскими державами; о р. Амазонке, открытой для всех флагов указом Бразильского Императора дон Педро II 1867 года, чему также предшествовали долгие препирательства Бразилии с другими государствами по этому поводу; и, наконец, о реках бассейна Рио-Гранде, плавание по которым для судов обоих граничащих государств – С.-Штатов и Мексики – регулируется заключенными между ними договорами 1848 и 1853 годов. Эта часть труда Каратеодори, посвященная американским рекам, изобилует подробностями преимущественно исторического характера.
В изложении режима, принятого Берлинским актом 1885 г. для африканских рек Конго и Нигера (§ 80), приведена история созыва конференции 1885 года после того как заключение, – одновременно с открытием Стенли могучей водной артерии Конго, – договора 1884 года между Англией и Португалией о признании прав последней на устье этой реки, открытое ею еще в XV столетии, вызвало возражения держав, и Португалия, в согласии с Англией, сама предложила перенести дело на разрешение международной конференции. В качестве особенностей режима р. Конго Каратеодори отмечает распространение принципа полной свободы судоходства, помимо самой реки, также и на ее притоки и главным образом установленные актом 1885 года меры в видах нейтрализации самой реки Конго и всего ее бассейна. На тех же началах разрешен был конференцией также и вопрос о Нигере, с той лишь разницей, что, в отличие от Конго, применение их предоставлено было не международной комиссии, а самим прибрежным государствам.
Viertes Kapitel. Die Binnenmeer die internationalen Seen und Kanäle. Ss. 378–405. §§ 81–82
В четвертой главе, посвященной вопросу о внутренних морях, международных озерах и каналах, Каратеодори упоминает (§ 81) из числа первых о Каспийском море, указывая на установленное в силу договора 1813 г. право плавания по нему обоих прибрежных государств, с предоставлением однако исключительно России права содержания в этом море своих военных судов. Относительно озер автор указывает прежде всего на подобное же condominium in indiviso прибрежных государств над Боденским озером, открытом впрочем по договору 1868 года для плавания судов всех наций, находя при этом, что ввиду постоянного нейтралитета одного из прибрежных государств, а именно Швейцарии, таковым же постоянно нейтральным должно признаваться и Боденское озеро. Наконец, относительно северных американских озер Каратеодори приводите договор 1854 г. между С. Штатами и Англией, которым открыто было плавание по этим озерам для подданных обоих государств.
Что касается международных каналов, то в этом отношении автор указывает (§ 82) на установленный проектом общемеждународного договора нейтралитет Суэцкого канала, под общими гарантий и контролем держав, в отличие от первоначального предложения Англии и Италии о предоставления в данном случае контроля самому Египту[1]. Относительно Панамского канала Каратеодори приводит Клейтон-Бульверовский трактат 1850 года между С. Штатами и Великобританией, имевший целью установление международной гарантии нейтралитета канала, который может быть сооружен впоследствии для соединения Атлантического и Тихого океанов. Упоминая затем о проявляемой С. Штатами тенденции присвоить себе исключительные права на этот водный путь, под предлогом общего изменения обстоятельств, и со ссылкой на договор, заключенный ими еще в 1846 году с Новой Гренадой (впоследствии Колумбией) (в силу которого С. Штатами был самостоятельно гарантирован Колумбии нейтралитет Панамского перешейка, равно как и всякого междуокеанского средства сообщения, которое может быть на нем установлено)[2], автор заканчивает изложение настоящего вопроса воспроизведением послания президента Клевленда от 9 декабря 1885 года, провозглашающего по отношению к Панамскому каналу те же основные начала, которыми регулируется положение Суэцкого канала.
Дальнейшую часть учения о территории составляют одиннадцатый и двенадцатый отделы Handbuchʼa, принадлежащие оба перу проф. Штерка и имеющие своим содержанием: первый – учение о морской территории и о правовых началах морского международного общения (Das Seegebiet und die rechtlichen Grundlagen für den internationalen Verkehr zu See) и второй – учение об открытом море (Das offene Meer).
ELFTES STÜCK. DAS SEEGEBIET UND DIE RECHTLICHEN GRUDLAGEN
FÜR DEN INTERNATIONALEN VERKEHR ZU SEE. VON DR. FELIX STOERK,
PROF. IN GREIFSWALD. SEITE 407–480. §§ 83–91
Одиннадцатая часть разделена на две самостоятельные главы, в которых автор рассматривает, с одной стороны, учение о правовом порядке международного морского общения в пределах государственной территории (Die rechtliche Ordnung des internationalen Verkehrs innerhalb der Grenzen des Staatsgebiets) а с другой – о правовом порядке этого общения вне пределов государственной территории (Die rechtliche Ordnung des internationalen Seeverkehrs jenseits der Staatsgebietsgrenzen).
Erstes Kapitel. Die rechtliche Ordnung des internationalen Seeverkehrs innerhalb der Grenzen des Staatsgebiets. Ss. 409–453. §§ 83–88
В первой главе проф. Штерк останавливается прежде всего (§ 83) на вопросе о правовых свойствах берега, а именно о характере прав государства на прилегающий к его территории морской берег и о том протяжении последнего, на которое это право распространяется. Указывая на общепринятое разрешение первого вопроса в смысле установленного еще Цельзом признания за государством права собственности на прилегающий берег, автор, с другой стороны, отмечает крайне разноречивые способы разрешения второго вопроса, т. е. о пределах берегового пространства, устанавливая, в конце концов, со своей стороны, что границей этого пространства является линия, соединяющая те пункты, на которых могут быть устанавливаемы и содержимы продолжительное время постоянные сухопутные учреждения государственного характера, в целях поддержания порядка и надзора за морским общением в пределах прилегающей водной территории.
Обращаясь далее к самой сущности связанных с береговым правом отношений международного характера (§ 84) и устанавливая в этом смысле подчинение иностранных подданных и судов правовому порядку того государства, на берегу коего они находятся, автор отдает особое внимание вопросу об обязанностях иностранцев в отношении уплаты таможенных пошлин, указывая также и на те исключительные условия, при которых (как, напр., в случае порто-франко) границы государственная и таможенная не вполне одна с другой совпадают. Переходя затем к собственно территориальным водам (§ 85), под которыми автор разумеет до известной степени замкнутые части береговой водной территории (рейды, порты и каналы), проф. Штерк особенно настаивает на необходимости выделения, в правовом смысле, этих вод из общего понятия береговых вод, на том основании, что в отношении первых действие прибрежной государственной власти сказывается с бóльшей интенсивностью. Автор подробно выясняет здесь понятие замкнутых частей водной территории и портов, как военных, так и коммерческих, не останавливаясь даже перед некоторыми данными технического свойства, но оттеняя главным образом момент подчинения этих водных пространств, прибрежной государственной власти, усматриваемый им даже, до известной степени, в отношении некоторых особых прав Египта, а также и Турции на Суэцкий канал, несмотря на исключительное международное положение последнего.
Дальнейшее изложение, посвященное компетенции прибрежного государства в смысле правового подчинения ей находящихся в государственных территориальных водах иностранных судов (§ 86), начинается общими замечаниями о свободном их, по общему правилу, доступе в эти воды, с ограничением лишь в отношении рыбной ловли и каботажа, с подчинением требованиям хозяйственного и полицейского порядка прибрежного государства и с применением, в принципе, в отношении взимания пошлин начала наиболее благоприятствуемой нации. Что касается затем, в частности, иностранных военных и государственных судов (§ 87), то относительно них автор заявляет себя сторонником полной независимости их, – в качестве «плавающих крепостей», частей отечественной их территории, – от местной государственной власти, вместе с их экипажем, даже и при спуске последнего на берег, поскольку таковой имеет служебный характер. Применение по отношению к военным судам, по аналогии, института «права убежища» автор считает несоответственным, находя, что допущение или сохранение на судне всякого вообще постороннего лица является вопросом усмотрения командира судна, и что во всяком случай в рассматриваемых условиях не может быть речи об институте «выдачи», кроме впрочем дезертиров, по отношению к которым имеет место осуществление выдачи в суммарном порядке. Относительно коммерческих судов (§ 88) автор устанавливает полное их подчинение, в принципе, наравне с частными лицами, действию территориальной власти. На практике однако, указывает он далее, господствует положение французского права в том смысле, что по отношению к явлениям, касающимся внутренней жизни судна, напр. соблюдения дисциплины, местная власть не должна вмешиваться в тех случаях, когда от нее не требуют содействия, при условии лишь, что этими явлениями не нарушается спокойствие порта.
Zweites Kapitel. Die rechtliche Ordnung des internationalen Seeverkehrs jenseits des Staatsgebietsgenzen. Ss. 433–480. §§ 89–91
Переходя к рассмотрению, во второй главе, правового порядка международного морского общения вне пределов государственной территории (§ 89), проф. Штерк касается прежде всего вопроса об юридических основаниях для распространения государственной власти за эти пределы, доказывая, что в основе этого явления лежит не право собственности государства на береговые воды, как это находят некоторые ученые, а с другой стороны, также и не интерес обеспечения только государству возможности принимать необходимые для защиты его безопасности меры, как полагают другие, а действительное право управления для государства этими береговыми водами, как соприкасающимися ближайшим образом с областью интересов его подданных. Но, выясняет при этом автор (§ 90), не самые воды, а лишь совершающееся в них поблизости берегов акты и явления правового характера имеют прямую связь с существующим в самом государстве общим правовым порядком, так что, заключает он, ссылаясь, в частности, на пример бухт Клек и Суторина, нельзя говорить о береговом, в юридическом смысле, характере хотя бы и прибрежных вод, если они не являются открытыми для общения. Рассматривая здесь же вопрос о применении действия территориального закона по отношению к судам, только проходящим в береговых водах и хотя бы в них и не останавливающимся, автор высказывается по этому вопросу в положительном смысле, находя совершенно правильной в этом случае точку зрения английского закона Territorial Waters Act. Обращаясь затем к рассмотрению самого объема компетенции территориальной власти и пространства ее действия (§ 91), проф. Штерк отвергает в отношении первого вопроса попытки некоторых ученых дать то или иное перечисление прав, принадлежащих этой власти, находя, что объем последней ничем не отличается в данном случае от общего объема государственной власти; что же касается определения расстояния, на котором власть эта может проявляться в отношении береговых вод, то автор, совершенно отвергая классический принцип Бинкерсгука «Terrae dominium finitur, ubi finitur armorum vis», высказывается за желательность общемеждународного авторитетного установления этого расстояния или хотя бы освещения господствующего его определения в размерах трех морских миль, иногда впрочем договорным путем уменьшаемого (напр. при допущении для подданных соседних государств более широких прав рыбной ловли), иногда же, наоборот, в некоторых отношениях увеличиваемого (напр., в отношении таможенного или санитарного надзора).
ZWÖLFTES STÜCK. DAS OFFENE MEER. VON DR. FELIX STOERK
PROFESSOR IN GREIFSWALD. SEITE 481–550. §§ 92–101
Приведенными рассуждениями автора заканчивается одиннадцатая часть Handbuchʼa. Следующая, двенадцатая, составленная также проф. Штерком и заключающая в себе учение об открытом море, разделяется, как и предыдущая, на две главы; из них первая посвящена изложению правовых отношений членов международного общения в открытом море (Die Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedern der Staatengesellschaft auf hoher See), а вторая – обозрению учреждений правового характера для контроля и защиты международного морского общения (Verwaltungsrechtliche Einrichtungen zur Controle und zum Schutze des internationalen Verkehrs).
Erstes Kapitel. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedern der Staaten Gesellschaften auf hoher See. Ss. 483–517. §§ 92–96
Первая глава начинается общими рассуждениями о свободе открытого моря (§ 92), в которых критикуются попытки различных ученых обосновать этот принцип на сложной нередко системе юридических доказательств, и устанавливается взгляд самого автора в том смысле, что принцип этот вытекает из естественной неспособности открытого моря быть объектом собственности в связи с принадлежащей всем государствам возможностью пользования морским пространством; за этими рассуждениями следует краткий исторический очерк развития принципа свободы открытого моря (§ 93). Дальнейшее изложение заключает в себе определение правовых последствий этого принципа (§ 94), выражающихся главным образом в признании всякого судна в открытом море частью его отечественной территории и в отсутствии, поэтому в отношении него каких бы то ни было прав по управлению со стороны какого-либо постороннего государства.
Обращаясь затем к рассмотрению отдельных договорных начал, регулирующих правовые отношения в открытом море (§ 95), проф. Штерк отмечает проявления этих начал в виде допускаемого права осмотра судов в интересах борьбы с негроторговлей (по конвенции 1841 года), регулирования рыбной ловли в Северном море и надзора за нею (по конвенции 1882 года), надзора за сохранением в целости кабелей (по конвенции 1884 года), а также отчасти регулирования торговли спиртными напитками в Северном море и т. п. Автор переходит далее к вопросу о морях, так называемых закрытых (§ 96) и, отвергая в данном случае приводимые им теории различных ученых – как сторонников признания полной собственности на эти моря за государствами, которым принадлежат их берега или хотя бы оба берега пролива, соединяющего их с открытым морем, так и сторонников полного господства и в данном случае общего принципа о свободе моря – высказывает, в заключение, свой взгляд в том смысле, что этот последний принцип может находить себе признание по отношению к морям закрытым лишь постольку, поскольку он совместим с началами обычного права, договора или национального права, но что, с другой стороны, должна быть отвергнута также и в этом случае мысль о праве собственности на водную поверхность, так как по отношению к последней вообще может быть речь только о праве ее администрирования.
Zweites Kapitel. Verwaltungsrechtliche Einrichtungen zur Kontrole und zum Schutze des internationalen Seeverkehrs. Ss. 518–550. §§ 97–101
Вторая глава рассматриваемой части, посвященная вопросу об учреждениях и мерах для надзора за международным морским общением и для его охраны, разделена автором (§ 97) на три части, в которых он рассматривает: в первой – вопрос о правовом положении самого судна; во второй – о правовых отношениях судового экипажа и в третьей – о порядке правового наблюдения за плаванием судов. Относительно самого судна (§ 98) автор указывает на господствующий принцип признания за ним национального характера его отечественного государства, при том условии, если им выполнены соответственные требования, установленные этим государством, флаг которого и является внешним выражением национальности судна. Наряду с ношением флага и отчасти в связи с ним, автор устанавливает еще и другие необходимые данные международно-правового состояния судна, а именно наличие корабельных бумаг и, в частности, свидетельства о тоннаже. При этом автор дает довольно подробный очерк общих условий правовой жизни судов по различным законодательствам (§ 99), указывая, как на главнейшее, основное ее условие, на факт регистрирования судна в каком-либо из портов данного государства. В числе мер, направленных к правовому регулированию вопросов, касающихся экипажа (§ 100), проф. Штерк отмечает прежде всего присвоение публично-правового характера, на основании всех почти законодательств, порядку морской службы и, в частности, подчинение лиц, на нее вступающих, определенным требованиям технического свойства, затем принадлежность дисциплинарных прав капитану судна и наличие в силу многочисленных договоров особых постановлений об обоюдном оказании помощи мореходцам (напр., в отношении доставления их на родину, их лечения, выдачи остающихся после их смерти наследств и т. п.). Заключительную часть рассматриваемого отдела составляет изложение мер, имеющих целью правовое наблюдение за плаванием судна (§ 101), и в этом отношении автор указывает на существующее в большинстве государств правило проверки способности судна к плаванию, в особенности, заграничному, регулирование самого морского пути (при посредстве сигналов, маяков, буев и т. п., а также соблюдения общепринятых правил, напр., в видах предотвращения столкновений судов), требование заявлений капитаном судна своим консульским властям порта о прибытии в сей последний, оказание помощи при кораблекрушениях и т. п.
DREIZEHNTES STÜCK. DIE INTERDICTION VON SKLAVENHANDEL UND SEERAUB. VON PROF. DR. KARL GAREIS. SEITE 551–581. §§ 102–112
Следующий за только что рассмотренным, тринадцатый отдел заключает в себе, в изложении проф. Гареиса, очерк монографического характера о воспрещении работорговли и морского разбоя.
Erstes Kapitel. Die Interdiction des Sklavenhandels
Ss. 553–570. §§ 102–106
Первая глава, посвященная вопросу о работорговле, начинается рассуждениями автора о соотношении между международным правом, с одной стороны, и институтом рабства – с другой. Устанавливая, в принципе (§ 102), что в область прямых задач положительного международного права, касающихся интересов государств – обществ, не входит собственно непосредственное обеспечение личной свободы человека, проф. Гареис конструирует данное отношение в том смысле, что борьбой против работорговли международное право охраняет правовой мир многих государств; рефлексивным последствием этой борьбы является ограничение или уничтожение рабства, которое представляется одной из целей идеального международного права.
Далее следует исторический очерк развития международно-правового ограничения работорговли (§ 103) с тех пор, как благодаря почину Англии, отменившей у себя работорговлю в начале XIX столетия, идея полного запрещения ее стала обсуждаться на конгрессах того времени, ограничивавшихся однако лишь выражением своего платонического ей сочувствия. Практическое применение находила себе эта идея только в отдельных договорах, деятельно заключавшихся Англией по этому поводу с другими державами, причем обстоятельством, задерживавшим их развитие, являлось лишь нежелание некоторых государств признавать во всей полности связанное с осуществлением борьбы с негроторговлей право осмотра, дававшее Англии ввиду одного уже численного превосходства ее военных судов значительные фактические преимущества. Компромисс найден был в том направлении, что точно определена была самая зона наблюдения за негроторговлей, установлены были особые для этой цели суда и тщательно регламентированы условия их деятельности по борьбе с негроторговлей. На этих началах и был заключен между пятью Великими Державами договор 1841 года об уничтожении негроторговли, подробное содержание которого и приводится автором (§ 104), причем он, в согласии с Мартицом, видит недостаток этого акта в том, что последним предоставляется лишь участникам его право, а не налагается на них обязанность борьбы с негроторговлей. Такая обязанность установлена была только в позднейшее время Берлинской Конференцией 1885 года относительно Конго.
Помимо борьбы собственно с работорговлей, автор указывает также (§ 105) и на попытки урегулирования вопроса о найме китайских кули в виде договора 1860 года между Англией и Францией – с одной стороны, а с другой – Китаем, установившим на основании этого особые правила эмиграции, которые вызвали однако недовольство указанных двух держав главным образом тем, что срок найма ограничен был китайским правительством пятью годами. В заключение проф. Гареис, отмечая такие акты внутреннего законодательства отдельных государств, имеющие отношение к вопросу о работорговле, как английский закон 1872 года или проект германского закона 1875 года, выясняет (§ 106) несовершенство в данном случае большинства законодательств, нуждающихся, по его мнению, в значительных изменениях и дополнениях.

