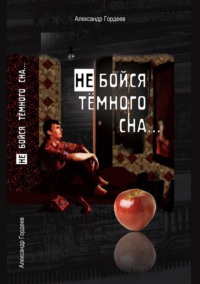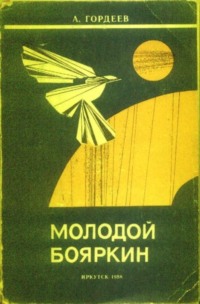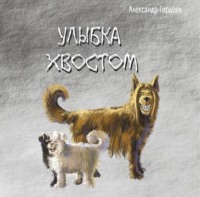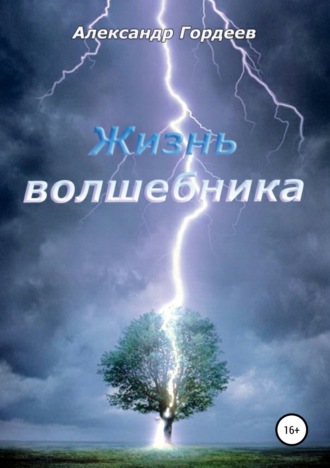
Жизнь волшебника
который, конечно же, должен был запомниться мне на всю жизнь. Сначала мчатся чёрные Волги, а
за ними торжественная открытая Чайка. И в ней сам генеральный секретарь. Рука приветственно
поднята. Его благородная седина, кажется, светит уже сама по себе, а золотые звёздочки на груди
и вовсе излучают уж просто лазерные лучи, прожигающие не только пространство солнечного дня,
но и пространство исторического времени…
Но главное опять же не в этом. Не видя уже ничего дальнейшего, происходящего где-то за
углом, я слышал, как моряки на корабле гаркнули: «Здравия желаем, товарищ генеральный
секретарь коммунистической партии Советского Союза!» (Кажется, так). В оцеплении после этого
мы простояли ещё минут двадцать не более, потому что Брежнев тоже уехал оттуда. Нас
погрузили в автобусы и отвезли в Анапу.
Естественно, что оказавшись в центре такого грандиозного исторического события, я потом
хотел знать о нём всё досконально. И вот свежие газеты. А в газетах речь товарища Брежнева,
произнесённая на борту большого противолодочного корабля «Красный Крым». Переворачиваю
страницы газеты «Красная Звезда» и теряюсь. Там этой речи часа на два не меньше. Когда же он
успел её высказать, если, как мы знаем, скороговоркой генсек говорить не умел?
Потом на политзанятиях от нас требовали, чтобы мы эту речь законспектировали. Я не стал её
даже читать, потому что совершенно точно знал: Брежнев этой речи не произносил, и, пожалуй,
вряд ли сам знает о её существовании.
Ложь, кругом одна ложь. Возможно, она-то подобно кислоте и разъела, разрушила
социалистический строй и великую страну. Самая грандиозная ложь состояла в провозглашении
равенства всех. Тем более что сами кричавшие о равенстве, никогда себя равными не считали.
Разве может равный лезть в вожди по головам, да и по черепам тоже? А потом, оседлав красную
трибуну, вести за собой толпу и одобрять научные статьи в учебниках о роли личности в истории,
тем самым уже научно отделяя себя как личность от народа (толпы)? Люди никогда равными не
были и никогда равными не станут. Унизительным это видится лишь недалёкому человеку, потому
что именно в этой-то неравности и содержится основа взаимоуважения. Другую личность следует
571
уважать не за сходство с тобой, а за отличие. (Ведь разве не этим интересен тебе другой
человек?). Уже одно такое понимание неравенства лишает основы для гордыни и заносчивости. А
так же основу национализма, фашизма и прочей мерзости…
*10
Конечно же, Роман – это не я. (Уж где я хочу максимально отстраниться от своего героя, так это
именно здесь.) И его родители – не мои родители. Родители Романа очень похожи на мою тётю
Машу – сестру отца и на дядю Мишу – её мужа. А рождение Романа на рождение моего
двоюродного брата Андрея, которого вырастили тётя Маша и дядя Миша, забрав его у своей
племянницы Альбины. Но, пожалуй, на этом-то всё биографические сходства и заканчиваются.
Писателю никогда не следует сдваивать свою судьбу с судьбой своих героев – это слишком
чревато. Опасно линию жизни героя превращать в прогноз собственной судьбы. Чтобы
обезопасить себя лучше уж как можно отчётливей определить свою авторскую, в какой-то степени
постороннюю, позицию.
Неловко было говорить о гибели родителей Романа, зная их реальных прототипов: тётю Машу и
дядю Мишу. Но ко времени написания этой главы тётя Маша уже умерла. Правда, она не погибла
на пожаре, а умерла от сахарного диабета, вероятно спровоцированного частым употреблением
бражки, которую в то время много пили по всем сёлами и деревням Читинской области, да и не
только Читинской, конечно. Не сказать, чтобы тётя Маша конкретно спилась, но бражка податливо
подталкивала её к концу. Много людей в сёлах погибало от спиртного, да и сейчас продолжают
гибнуть… Вот он истинный-то пожар, для которого не требуется огня. Наверное, не случайно о
человеке, погибшем от спиртного, говорят, что он сгорел. Огонь алкогольного пожара полыхает в
России неугасимо, прожорливо, медленно и верно… А теперь к нему добавился ещё и
наркотический пожар…
Дядя Миша умер когда ему было семьдесят шесть лет. За месяц до его смерти в родительский
день мы с моей сестрой приезжали к нему, живущему у Андрея. Нас удивило, что дядя Миша до
сих пор курит (не брезгуя, конечно, и водочкой), пристрастившись к табаку с семи лет. И пережил
при этом многих. Мы тогда ещё посмеялись: «Так это ж настоящая реклама курению!» Дядя Миша
тоже посмеялся и заверил, что протянет на этом свете ещё года два. Но так уж вышло, что не
прожил потом и месяца. Когда мы его хоронили, сестра моя высказала, пожалуй, правильную
мысль: ничего от него не осталось, совсем ничего, ни дел, ни интересных мыслей, ни собственных
детей…
Что ж тут поделаешь – люди проживают свой век и так. Уважение к старости одно, а правда –
совсем другое. Но тут ведь уж как повезёт. Кому какая Судьба достанется, такую и пронесёшь всю
жизнь на своих плечах…
*11
Романа провожает только Митя Ельников, а меня, автора, все герои, живущие на Байкале.
Всякий раз уезжая откуда-то, мы оставляем там сразу целый круг друзей и знакомых. Жаль
отпускать из действия романа сразу так много хороших персонажей. Моему главному герою в
рамках повествования встретиться с ними уже не суждено, но я, как автор, бываю на Байкал и
сейчас.
И вот приехав однажды в Выберино (или в Выдрино, как оно есть по жизни), я вошёл в дом
прототипа Мити Ельникова – Юрия Копырина. Юра, обрадовавшись встрече, тут же выставил на
стол бутылку. Он всегда имел тягу к неспешным и душевным беседам, но я торопился на поезд.
Юра стал настаивать. Я хотел уйти, он заслонил собой дверь. Я попытался отодвинуть его в
сторону, он не захотел отодвигаться. В конце концов, схватившись, мы упали на пол и принялись
бороться, собрав в кучу все половики. Смех и грех – иначе не скажешь. Его маленькая, но боевая
жена Шура (или Настя, по повествованию) пришедшая с улицы, наблюдала за нами, ничего не
понимая. А потом взяла в руки валенок, пытаясь понять кто же тут у них в гостях, и кому, исходя из
серьёзности и характера схватки, первому врезать по башке. Очень скоро я сообразил, что
большого, кряжистого Юру мне не одолеть. Но и поезд ждать меня не станет.
– Юра, – пришлось мне тогда схитрить, – я сейчас только сбегаю за сумкой к дяде и вернусь.
Юра поверил. Я побежал к дому дяди Аполлона. Дядя был уже на взводе. Мы запрыгнули в его
Жигуль и поехали на станцию. Дядю я ни о чём не успел предупредить, а когда мы проезжали
мимо дома Юры, тот выскочил на дорогу, растопырив руки. Дядя Аполлон от неожиданности едва
не съехал в кювет. Оглянувшись, я увидел, что Юра грозит мне кулаком. Эх, какой же неловкой
вышла наша встреча…
В следующий раз, уже на собственной машине, я приехал на станцию только через десять лет.
Но Юра уже умер. Не было в живых и его жены. Выходит, что прощаясь со мной и уходя из этой
жизни, Юра погрозил мне кулаком. Но я надеюсь, что обиделся он на меня не всерьёз.
От дома Копыриных, уже заселённого другими людьми, я поехал на улицу, где жил печник и
Демидовна. Однако отыскать их дома не мог. К тому же, много общаясь с их литературными
572
воплощениями в романе, я полностью переключился на вымышленные имена, забыв настоящие.
Так что спрашивать у прохожих где живёт Демидовна или Илья Никандрович было всё равно, что
говорить о каких-то никогда не существовавших людях. Стоя в замешательстве посредине улицы, я
увидел как открылись широкие ворота одной из оград, откуда молодая, ширококостная женщина,
выкатывала на улицу конную телегу, взявшись за оглобли обеими руками. Конечно же, это была
дочь Демидовны, которая и внешне была очень похожа на неё.
– Мою маму звали Шурой, – поправила она меня. – Только мама умерла уже восемь лет назад.
Я поинтересовался про печника. Но она его не помнила. Не помнили старика и другие редкие
прохожие, встреченные на улице. Меня это изумило и потрясло. В это невозможно было поверить,
ведь дома этих людей всё ещё согревали печи, монументально сложенные забытым мастером.
В целом захирело и всё Выдрино. Приехав туда ещё раз в 2006 году (а это был уже год
экономического подъёма), я удивился, что за последнее десятилетие в посёлке не построено
ничего. Всё лишь разбиралось и разрушалось. Уныние царило и в пожарной части, в которой я
когда-то работал. Деревянной тренировочной вышки будто и не существовало никогда – даже
место, где она стояла трудно было определить. Мне хотелось войти в караульное помещение,
чтобы всколыхнуть воспоминания, но я не решился. Подумалось, что новые люди не поймут моей
странной ностальгии. К тому же Каргинского (Каргопольцева) к тому времени тоже не было в
живых. Умер. А его жена сгорела около печки в искусственной, какой-то капроновой шубе, когда
была пьяна. В общем, в пожарной части хоть и остались какие-то мои знакомые, но не осталось
никого из прототипов тех героев с которыми жил Роман Мерцалов…
Я сел в машину и долго смотрел сквозь стекло, не зная куда ещё можно поехать. Как обидно это
потрясающее бесследное исчезновение всего! Где та титаническая жизненная работа,
произведённая людьми, которые стали у меня Демидовной, Ильёй Никандровичем и другими?
Несправедливо, когда что-либо создаваемое усилием всей жизни человека, тает и растворяется
бесследно. А как велика и от того страшнао скорость этого растворения! Почти по пятам за нами
ползёт накрывая и растворяя всё прожитое и пережитое вовсе ни какая-то фантастическая, а
самая реальная, туманная волна забвения… Как неправилен и несправедлив мир, устроенный с
таким тотальным, всепоглощающим забвением! («Как скучно, наверно, было бы быть вечным!» –
подумал я в тот момент в беспамятном посёлке Выдрино). В жизни происходит тьма событий,
масса движений и всё это почти тут же оседает в бездну забвения! Так в чём же тогда, скажите,
смысл происходящего, смысл самогоо сиюминутного настоящего?!
А, может быть, дело обстоит так, что этот наш активный, с множеством событий, мир, связан
какими-то нитями с другим, неактивным миром и мы подпитываем его своей энергией, своими
событиями? В том пассивном мире ничто не происходит само по себе – ну, не может происходить,
и всё тут! Так уж там положено. И потому он питается событиями нашего мира. Что для нас капля
дождя, упавшая с неба? Совсем ничего! А там величайшее событие! И так во всём, во всех
мелочах. Вот эта-то функция мотора и даёт смысл существования нашему, активному, бурному
миру. Хорошо, если хотя бы так… Но ведь это лишь фантазия, не имеющая реальной основы…
Просто фантастический сюжет. А как на самом деле? Должно же, обязательно должно где-то
оставаться то, что происходит сейчас, то, что совершается сиюминутно. Просто мы ещё не всё
знаем про жизнь. Живём в ней, делаем что-то, совершаем, ворочаем, а вот не знаем, и всё тут.
Лишь это-то незнание и утешает…
*12
И после этого мы снова сидели вместе с Романом, не глядя друг другу в глаза.
– Зачем ты позволяешь мне такое? – угрюмо спросил он. – Понятно, что я живу лишь в твоём
воображении, но зачем ты толкнул меня на такое? Если ничего подобного не было в твоём опыте,
то зачем оно мне?
– Потому что ты совсем другой, – пришлось пояснять ему. – Ведь ты во многом превосходишь
меня. Превосходишь внешностью, страстями, может быть, даже самой жаждой жить. И это
понятно. Зачем автору герой, который хуже или проще его самого, который имеет меньшую
свободу действий и поступков? Почему автор не может позволить герою поступать так, как не
поступал сам? Не беспокойся, в эпизоде с Гуляндам Салиховной ты был совершенно логичен.
– Стыдно это всё… – произнёс Роман, глядя в сторону. – Даже перед самим собой стыдно. А уж
что подумают другие…
– Ничего, ничего, – успокоил я своего героя, – плохо будут думать не столько о тебе, сколько
обо мне. Ведь это я предложил тебе ситуацию, в которой ты не был способен действовать иначе.
А, кроме того, всё это такие мелочи в сравнении с тем, что тебе ещё предстоит. .
*13
Ах, сенокос, сенокос… Уж не знаю почему, но всякий раз возвращаясь к моменту, где Матвей
набивает травой свой мешок, я всю эту картину вижу, словно из окна мчащегося поезда. Мчится
поезд, осваивая вместе с тобой, лежащим на полке вагона, всё новые и новые, будто, бесконечные
573
просторы, и вдруг на каком-то пятачке этого ритмично проплывающего изумрудного пространства
ты обнаруживаешь копошащегося, неутомимого человечка-жучка, набивающего в мешок траву для
коровы. И на мгновение этот мужичок кажется тебе каким-то ничтожным со своими мелкими
заботами и радостями. Но если, уже стремительно удаляясь от него, ты вдумаешься поглубже, то
непременно сделаешь одно простое открытие: у этого человека есть своя жизнь, которая,
возможно, куда полноценней и богаче твоей. Быть может, в том мелком, как тебе кажется,
копошении посреди зелёных или каких там угодно: голубых или чёрных (пашенных) просторов,
смысла куда больше, чем в твоём высокомерном движении по пространству; что, смысл жизни для
этого человека определён куда отчётливей и крепче, чем для тебя; что по большому-то счёту,
смысл существования куда основательней на фоне практической, сиюминутной жизни, а не на
фоне вековой мудрости, собранной в книгах, читаемых и почитаемых тобой. У каждого своя жизнь
и свой смысл этой жизни. У кого-то он в постукивании колёс, у кого-то в мешке с изумрудной
травой. Но он обязательно есть… Или должен быть…
*14
Мой отец – Гордеев Николай Григорьевич болел сахарным диабетом. Первое недомогание он
почувствовал после уборочного сезона, отработав там комбайнёром и даже установив какой-то
новый рекорд. Больницу он никогда особенно не жаловал, а тут припёрло – пришлось идти.
Вернувшись из больницы повеселевшим, отец даже похвастался, что принимал его сам главврач –
вроде как честь какую-то оказал передовику производства. Заключение же специалиста было
таково, что всё его недомогание – пустяки. Оно от неправильного, нерегулярного питания по время
уборочной страды (так называлось это тогда). Курс глюкозы для поддержания организма – и
порядок. Эта-то глюкоза, очевидно, и подпитала диабет…
…Идут девяностые годы, я пытаюсь заниматься коммерцией. Знаю, что отец болеет, но
съездить к нему некогда. У отца на фоне диабета начинается гангрена. И снова я, непутёвый сын,
не могу вырваться и съездить домой. Но вот уже и тянуть некуда. От матери пришло письмо, что
отцу совсем плохо, его надо бы переправить в Читу, а сделать это невозможно – никто не везёт.
Успехи мои в коммерции пока не велики, своей машины нет. И я нанял старенький Москвичок
весёлого почти оранжевого цвета.
Приехав, в Боржигантай, вошёл в дом, поздоровался с мамой, спросил, где отец?
– В тепляке, – ответила она, угрюмым кивком указав во двор.
Я вошёл в тепляк и не мог вздохнуть от сладкой вони гниющего мяса. Отец лежал на кровати, а
нога его свисала над тазом в который из ноги стекало что-то мутно-белое. Отец, совершенно
измождённый болью, смотрел на меня и, кажется, не узнавал. Было впечатление, что он просто
сильно пьян.
Я был в шоке! Какая же я сволочь, что не нашёл возможности приехать раньше! Да только
откуда ж было мне знать, что его не станут лечить в больнице, как безнадёжного, что по всему селу
нельзя найти машину, чтобы отвезти отца хотя бы в райцентр – в Могойтуй, потому что для
частников в совхозе нет бензина? Из местной больницы, минимально выполняя свой врачебный
долг, приходили, осматривали больного, беспомощно жаловались, что у них тоже нет машины, и
уходили. А как понять маму, которая лишь переселила отца в тепляк, да написала мне письмо? Её
просто невозможно понять. Она с боольшей готовность чем все смотрела на отца, как на
безнадёжного. Смирившись с обстоятельствами, которые казались ей непреодолимыми, она уже,
что называется, несла свой крест…
Мама вообще была у нас странной. В детстве я всегда поражался тому спокойствию, с которым
она рубила головы курам. Она никогда не просила об этом отца. Сама шла во двор, ловила
подходящую курицу, голову на чурку, тюк топором и готово. Меня, если я видел это дело,
совершаемое легко и словно мимоходом, просто сковывало ужасом, но мама, кажется, всегда
была спокойной. Или, может быть, просто делала вид? Не знаю. Во всяком случае куриное мясо я
в детстве не ел. Другая же, как мне казалось, противоположная особенность мамы состояла в том,
что она была певуньей. Ах, как замечательно и голосисто она пела! Голос её был силы
необыкновенной. Когда она была ещё совсем маленькой, к нам в село (в село Ундино-Поселье)
приезжали московские артисты. А так как гостиницы у нас не было, то артистов расселяли в
свободные дома. Просторный дом моей бабушки, несмотря на семерых её детей, тоже считался
подходящим для этого. И вот однажды, готовясь к концерту в клубе, артисты стали распеваться
прямо в доме. Мама послушала, послушала их, а потом вышла на крыльцо и передразнила перед
любопытной ребятнёй, собравшейся в ограде. Она повторила практически всё. Артисты же,
услышав её, удивлённо повыглядывали из дверей. Попросили маму пропеть что-нибудь ещё.
Голосом её они были поражены и потом, уезжая, просили бабушку, чтобы та позволила взять это
дарование с собой. Они обещали устроить её в музыкальное училище. Но бабушка не
согласилась, и, вероятно, страна не получила от этого еще одну Дуню Бурлакову. Маме же на её
творческую судьбу (если тут уместно так сказать) досталось лишь пение в художественной
самодеятельности. Там она пела народные песни, а так же песни из репертуара Лидии
574
Руслановой. Мне же почему-то запомнилось, как трогательно пела она песню о Ленине со
словами: «Ленин с нами и люди спокойны, если рядом Владимир Ильич…» Сам видел, как глаза
слушателей в зале наполнялись от этой песни слёзами умиления.
К слову сказать, у моего отца в детстве было прозвище Ленин. Ну, во-первых, потому что его
маму звали Леной. В селе многих тогда звали по матерям. «Это чей парнишка-то бегает?» «Так
Катин», или «Машин», или «Ленин». А во-вторых, потому что родился мой отец, как и великий
вождь, 22 апреля.
Так вот теперь этот заживо сгнивающий Ленин находился совсем рядом, в тепляке, а мама
каким-то образом, оставалась невозмутимой. Или опять же мне это просто казалось? Наверное,
так. (До сих пор хочется верить, что именно так…)
Кое-как устроив отца на заднее сиденье Москвича, выехали в Читу. Но как долго тащились мы
туда! Сейчас, когда у меня есть хорошая машина, я не знаю сколько нужно сделать подъёмов и
спусков по сопкам, чтобы приехать из Боржигантая в Читу. Моя «японка» их просто не замечает.
Водитель почти оранжевого Москвича это число знал точно. Как было ему этого не знать, если его
машина еле-еле вползала на каждый?
Дорога казалась мне вечной. Мы ехали с открытой форточкой, чтобы салон хоть немного
проветривался. Лицо водителя было постоянно повёрнуто к свежему воздуху – за такую долгую
дорогу можно и окриветь. На отца я боялся оглядываться. А если оглядывался, то видел его
затуманенный и какой-то отгораживающий взгляд, потому что боль на тряской дороге была
сильнее. Кажется, отец просто не видел ничего вокруг. Всю дорогу он молчал. Стоны были ему не
нужны – отец сам был одним сплошным бессильным стоном.
До областной клинической больницы доскреблись уже ночью. Какое это унижение быть бедным
– бедным настолько, чтобы привезти отца в таком состоянии, на таком советско-московском
драндулете… А ведь я со своей коммерцией лишь о том и мечтал, чтобы жить получше и всех
родных вытянуть из этого унизительного существования. Только когда это ещё будет? Больные
родители ждать не могут.
В приёмной, я встретил высокого, чем-то рассерженного врача, сообщил, что привезли
больного.
– Откуда? – спросил он.
– Из Могойтуйского района.
– Мы его не примем, – ответил врач, – везите в Могойтуй.
Я почувствовал, как меня пробивает волна бешенства и жара. До Могойтуя больше ста
километров в обратном направлении. Мне казалось я сейчас просто разорву этого равнодушного
эскулапа. Однако эмоции пришлось сдержать. Нет уж, дорогой, никуда мы больше не поедем…
– Хорошо, – сказал я, как можно спокойней, – мы увезём его туда, куда вы скажите. Но ведь вы
– врач, а там – больной. Окажите ему первую помощь. Хотя бы взгляните на него.
Врачу этот довод показался убедительным. Он вышел, открыл дверцу «Москвича», посмотрел в
лицо моего отца, откинул тряпку с ноги и уже не раздумывая, распорядился:
– Заносите! Быстро!
После осмотра врач вышел в приёмную.
– Ногу надо срочно ампутировать.
Я лишь кивнул головой, вошёл к отцу.
– Всё, батя, – сказал я ему, не зная, дойдёт ли до него смысл моих слов, – надо отрезать.
– Я не дам, – словно очнувшись, вдруг хрипло, но совершенно осмысленно ответил отец.
И я понял его. Как в деревне без ноги? Как хозяйство, как мотоцикл, как дрова и сено?
Сельскому жителю без ноги никак нельзя. Но, кажется, отец просто не понимал, что ступни у него
уже нет – она ещё дома вытекла в таз.
– Режьте, – сказал я, повернувшись к врачу.
– Вы ему кто? – как и полагается, осведомился он.
– Сын, – ответил я, доставая паспорт.
Оказавшись без одной ноги и поправившись, отец через какое-то время приспособился к
своему новому положению: ездил на «Урале», а уж колоть дрова на протезе, так это для него и
вовсе оказалось простым делом. Когда я к нему так же изредка приезжал, занятый судорожным
коммерческим выкарабкиванием, отец даже хвастался тем, как он ко всему приловчился. Одна вот
только печаль – за оградой отец старался показываться как можно реже. Ему было стыдно, что
теперь он без ноги. Казалось бы, что за стыд? А вот и стыд. Просто отец был из породы тех
активных, жизнерадостных мужиков, что по дороге ни одну женщину не обделят красноречивым
мужским взглядом. (Возможно, как раз в отместку за это мама с такой готовностью и списала его в
разряд безнадёжных…) И вот теперь отцу, находящемуся ещё в расцвете сил, стало казаться, что
как мужчины его уже нет.
А потом настала очередь второй ноги. Зимой я снова получил письмо от мамы, что отцу
становится всё хуже. В Боржигантай мы приехали вместе с сестрой и её мужем Володей.
Отец, бледный, лежал на диване.
575
– Ну что, как дела? – спросил я его.
– Да вот теперь уж точно помирать надо…
Начали сборы. Отца едва загрузили в машину, собственных сил у него не было никаких. Это
казалось таким непривычным, что даже возникало нелепое подозрение: капризничает что-то, а вот,
мол, делайте со мной, что хотите, а я и помогать не буду… Во всё время сборов он молчал и лишь
когда машина выезжала за село отец, оглянувшись в заднее окошечко, вдруг грустно произнёс:
– Ну всё, прощай Боржигантай…
Произнёс он это тихо, будто сам для себя, но у всех нас – комок в горле, потому что это звучало,
как прощай жизнь… Мне захотелось его поправить: «Ну почему же, «прощай»? Но ни я, ни кто
другой так его почему-то и не поправил…
Отец молчал и в пути. Я подумал: может быть, подрёмывает? Нет, просто смотрел в окно на
мелькающие верхушки голых деревьев и молчал. Мама его состояние описала так: «Почернел
палец на второй ноге». Нам стало понятно, что придётся отнимать и эту ногу. Но, как наделись мы
по дороге, резать придётся или до стопы или уж до колена.
В больнице врач попросил меня снять с ноги отца повязку. Я стащил носок, надетый сверху.
Дома на ногу никак не могли натянуть унт и потому засунули ногу в самый большой валенок,
который только нашёлся. Носок слетел вместе с повязкой, и я увидел то, что видеть, наверное,
полагается лишь врачам, специально для этого подготовленным: там было одно мясо и нога
чёрная до колена. Оказывается, дома отец не показывал её даже врачам, а когда мама настаивала