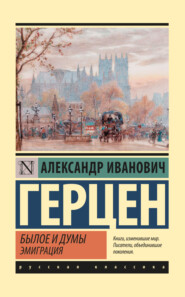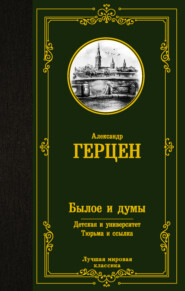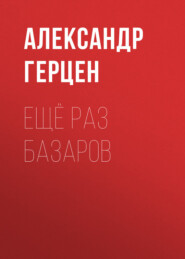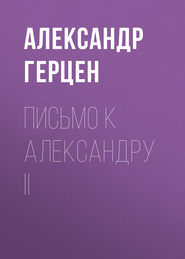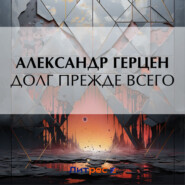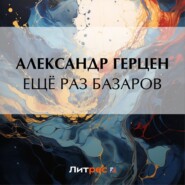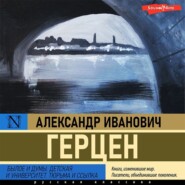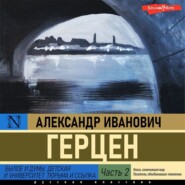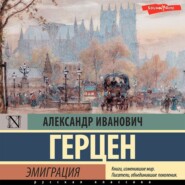По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Наши» и «не наши». Письма русского (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Его не так варят, – отвечал Кетчер и предложил свою методу. Кофей вышел такой же.
– Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю, – заметил Кетчер и принялся за дело.
Кофей не поправлялся, я заметил это Кетчеру.
Кетчер попробовал и, уже несколько взволнованным голосом и устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил:
– Так, по-твоему, этот кофей не лучше?
– Нет.
– Однакож это удивительно, что ты в едакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения.
– Не я, а кофей.
– Это, наконец, из рук вон, что за несчастное самолюбие!
– Помилуй, да ведь не я варил кофей и не я делал кофейник…
– Знаю я тебя… лишь бы поставить на своем. Какое ничтожество – из-за поганого кофея – адское самолюбие!
Больше он не мог; удрученный моим деспотизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исходивши верст двадцать; счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение; я, разумеется, не поминал о кофее и делал разные вежливости грибам.
На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился.
Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына.
Воспитание делят судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота – человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке – он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. «У меня, говорит, такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю… это предмет слишком близкий к сердцу».
Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе – обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия и твердо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из искусственной жизни и сознательно возвратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы.
Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался, как все, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противодействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым, педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастию, в деле воспитания, как во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.
Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле… прикладное было слишком близко. Мой сын – тогда ему было лет семь-восемь – был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему леченья и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя.
– Ты консерватор! – кричал он с неистовством, – ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба.
Ребенок шалил и кричал во время болезни матери, я останавливал его; сверх простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной «Жуковым»:
– Где твое право останавливать его крик – он должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!
Размолвки эти, как я ни брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если б это было, он больше всех был бы наказан и потому, что он все же был очень привязан ко всем, и потому, что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с другим, и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду, но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую.
Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, поверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решенное – и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы sommairement[61 - В целом (франц.). – Примеч. ред.] сплеча, так или иначе – все равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.
При всем том серьезного отдаления до 1846 между нами не было. Natalie очень любила Кетчера, с ним неразрывна была память 9 мая 1838 года; она знала, что под его ежовыми колючками хранилась нежная дружба, и не хотела знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни. Ссора с Кетчером представлялась ей чем-то зловещим; ей казалось, если время может подпилить, и притом такой маленькой пилкой, одно из колец, так крепко державшихся во всю юность, то оно примется за другие – и вся цепь рассыпется. Середь суровых слов и жестких ответов я видел, как она бледнела и просила взглядом остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало Кетчера, но он употреблял гигантские усилия, чтоб показать, что ему, в сущности, все равно, что он готов примириться, но, пожалуй, будет продолжать ссору…
На этом можно было бы годы продлить странное, колебавшееся отношение карающей дружбы и дружбы уступающей… но новые обстоятельства, усложнившие жизнь Кетчера, повели дела круче.
У него был свой роман, странный, как всё в его жизни, и заставивший его быстро осесть в довольно топкой семейной сфере.
Жизнь Кетчера, сведенная на величайшую простоту, на элементарные потребности студентского бездомовья и кочевья по товарищам, вдруг изменилась. У него в доме явилась женщина, или, вернее, у него явился дом, потому что в нем была женщина. До тех пор никто не предполагал Кетчера семейным человеком, в своем chez soi[62 - Домашнем кругу (франц.). – Примеч. ред.], – его, любившего до того все делать беспорядочно: ходя закусывать, курить между супом и говядиной, спать не на своей кровати, – что Конст. Аксаков замечал шутя, что «Кетчер отличается от людей тем, что люди обедают, а Кетчер ест», – у него-то вдруг ложе, свой очаг, своя крыша!
Случилось это вот как.
За несколько лет до того Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку; утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застенчива и жалка; ее существование никем не было замечено… ее никто не жалел… Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольнический скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать, приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о ее печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первом она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова: за всеми шумами приятельских пиров, московских первых спектаклей и бажановской кофейной была пустота в его сердце, в которой он, конечно, не признался бы даже себе самому, но которая сказывалась. Бедный, невзрачный цветок сам собою падал на его грудь, и он принял его, не очень думая о последствиях и, вероятно, не приписывая этому случаю особенной важности.
В лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального[63 - Избирательного, от еlectoral (франц.). – Примеч. ред.] ценса и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. С ними не женировались[64 - Стеснялись, от se g?ner (франц.). – Примеч. ред.] мы все… и потому бросить камень вряд посмеет ли кто-нибудь.
Сирота безумно отдалась Кетчеру. Недаром воспиталась она в раскольническом скиту – она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтила, чего боялась, чему повиновалась – Христос и Богоматерь, святые угодники и чудотворные иконы, – все это теперь было в Кетчере, в человеке, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это было вполовину скрыто, погребено… не смело обнаружиться.
…У ней родился ребенок; она была очень больна, ребенок умер… Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула… Кетчер стал холоднее к Серафиме, видался реже и наконец совсем оставил ее. Что это дикое дитя «не разлюбит его даром», можно было смело предсказать. Что же у ней оставалось на всем белом свете, кроме этой любви?.. Разве броситься в Москву-реку. Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, несмотря ли на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтоб встретить его, проводить глазами и потом плакать, плакать целую ночь; большею частью она пряталась но иногда кланялась ему и заговаривала. Если он ласково отвечал, Серафима была счастлива и весело бежала домой. О своем же «несчастий», о своей любви она говорить стыдилась, и не смела. Так прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. В 1845-м Кетчер переселился в Петербург. Это было свыше сил. Не видать его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами, знать, что он за семьсот верст между чужими людьми, и не знать, здоров ли он и не случилось ли с ним какой беды, – этого вынести она не могла. Без всяких пособий и помощи, Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала месяцы, исчезла и добралась-таки до Петербурга. Там, усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтоб он не оттолкнул ее, чтоб он ее простил, что дальше ей ничего не нужно: она найдет себе угол, найдет черную работу, будет жить на хлебе и воде, лишь бы остаться в том городе, где он, и иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли: теперь она останется здесь у него, это будет ее дом, он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись: забыты холодные осенние ночи, забыт страшный путь и слезы ревности, и горькие рыданья; она с ним и уже наверное не расстанется больше… живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории, разве один Михаил Семенович; теперь скрыть ее было невозможно и не нужно: мы двое и весь наш круг приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг.
И эта-то девушка, полная любви, с своей безусловной преданностью, покорностью, наделала Кетчеру бездну вреда. На ней было все благословение и все проклятие, лежащее на пролетариате, да еще особенно на нашем.
В свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она Кетчеру.
И то и другое в совершенном неведении и с безусловной чистотой намерений!
Она окончательно испортила жизнь Кетчера, как ребенок портит кистью хорошую гравюру, воображая, что он ее раскрашивает. Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы – дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь, – и она, воспитавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Связывая вновь необыкновенной силой воли порванные концы, она крепко держалась за узел.
Ускользнуть Кетчер уже не мог. Но он и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер искренно стремился загладить его, подвиг Серафимы увлек его. Склоняясь перед ним, он знал, что, в свою очередь, и он делает жертву; но, натура в высшей степени честная и благородная, он был рад ей как искуплению. Только знал-то он одну материальную сторону ее, фактическое стеснение жизни… о противоречии сожития старого студента с шиллеровскими мечтами с женщиной, для которой не только мир Шиллера не существовал, но и мир грамотности, мир всего светского образования, ему и в голову не приходило.
Что ни говори и ни толкуй, но пословица inter pares amicitia[65 - Между равными дружба (лат.). – Примеч. ред.] совершенно верна, и всякий mеsalliance[66 - Неравный брак (франц.). – Примеч. ред.] – вперед посеянное несчастие. Много глупого, надменного, буржуазного разумелось под этим словом, но сущность его истинна. В худшем из всех неравенств – в неравенстве развития – одно спасение и есть: воспитание одного лица другим; но для этого надобно два редкие дара: надобно, чтоб один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтоб один вел, другой шел. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталь, он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокаивается, запутанный нитками и тесемками. Бывает и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитие превращается в консолидированную войну, в вечное единоборство, в котором лица крепнут и остаются на веки веков в бесплодных усилиях, с одной стороны, поднять и, с другой, стянуть, т. е. отстоять свое место. При равных силах этот бой поглощает жизнь, и самые крепкие натуры истощаются и падают обессиленными середь дороги. Падает всего прежде натура развитая – ее эстетическое чувство глубоко оскорблено двойным строем, лучшие минуты, в которые все звонко и ярко, ей отравлены… Экспансивные люди страстно требуют, чтоб все близкое им было близко их мысли, их религии. Это принимается за нетерпимость. Для них прозелитизм дома – продолжение апостольства, пропаганды; их счастие оканчивается там, где их не понимают… а чаще всего их не хотят понять.
Позднее воспитание сложившейся женщины – дело очень трудное, особенно трудное в тех сожитиях, которыми оканчиваются, а не начинаются близкие отношения. Связи, легко, ветрено начатые, редко подымаются выше спальной и кухни. Общая крыша слишком поздно покрывает их, чтоб под ней можно было учиться, разве какое-нибудь страшное несчастие разбудит душу спящую, но способную проснуться. По большей части la petite femme[67 - Маленькая жена (франц.). – Примеч. ред.] никогда не делается большой, никогда не делается женой и сестрой вместе. Она остается или любовницей и лореткой или делается кухаркой и любовницей.
Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность. Но одинаковость развития сглаживает многое. А когда его нет, а есть праздный досуг, нельзя вечно пороть вздор, говорить о хозяйстве или любезничать; а что же делать с женщиной, когда она что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо телесно близкое и умственно далекое. Ее не нужно днем, а она беспрестанно тут; мужчина не может делить с ней своих интересов, она не может не делить с ним своих сплетен.
Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. Вот в эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Бесследным это не остается.
Бывают прочные отношения сожития мужчины с женщиной без особенного равенства развития, основанные на удобстве, на хозяйстве, я почти скажу, на гигиене. Иногда это – рабочая ассоциация, взаимная помощь, соединенная с взаимным удовольствием; большей частию жена берется как сиделка, как добрая хозяйка, «pour avoir un bon pot-aufeu»[68 - «Чтобы иметь хороший обед» (франц.). – Примеч. ред.], как говорил мне Прудон. Формула старой юриспруденции очень умна: a mensa et torn[69 - От стола и ложа (лат.). – Примеч. ред.], – уничтожь общий стол и общую кровать, они и разойдутся с покойной совестью.
Эти деловые браки чуть ли не лучшие. Муж постоянно в своих занятиях, ученых, торговых, в своей канцелярии, конторе, лавке – жена постоянно в белье и припасах. Муж возвращается усталый – все готово у него, и все идет шагом и маленькой рысцой к тем же воротам кладбища, к которым доехали родители. Это явление чисто городское[70 - Ни у пролетария, ни у крестьян нет между мужем и женой двух разных образований, а есть тяжелое равенство перед работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.]; в Англии оно является чаще, чем где-либо; это та среда мещанского счастья, о котором проповедовали моралисты французской сцены, о котором мечтают немцы; в ней легче уживаются разные степени развития через год после окончания курса в университете, тут есть разделение труда и чинопочитание. Муж, особенно при капитале, делается тем, чем его назвал смысл народный – хозяин, «топ bourgeois» своей жены. Этим путем и благодаря законам о наследстве он не зарастет травой, всякая женщина постоянно остается женщиной на содержании, если не у постороннего, то у своего мужа. Она это знает.
Dessen Brot man i?t,
Dessen Lied man singt[71 - Чей хлеб ешь, того песню поешь (нем.). – Примеч. ред.].
Но в этих браках есть свое нравственное единство, есть свое одинаковое воззрение, свои одинакие цели. Кетчер сам цели не имел и равно не мог быть ни «хозяином», ни воспитателем. Он не мог с Серафимой даже бороться – она всегда уступала. Своим криком, своим строптивым характером он запугал ее. При ее развитом сердце у нее было тяжелое, упирающееся пониманье, та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно не привыкнувших к отвлеченной работе, и которая составляет одну из отличительных черт допетровских времен. Соединенная с своим «кровным, болезным», она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бедности? Да разве она всю жизнь не была бедна, разве она не вынесла нищету – эту бедность с унижением? Работы? Разве она не работала с утра до ночи в мастерской за несколько грошей? Ссоры, разлуки? Да, последнее было страшно, и очень, но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было с ней в самом деле поссориться, а каприз она вынесла бы; пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть уверенной, что он ее хоть немного любит и не хочет с ней расстаться. И он этого не хотел, и на это, сверх всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кетчера, она стала заменять чего в ней не было постоянным уходом и заботливостью.
Кетчеру было за сорок лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома так, как киргиз в кибитке: без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исподволь все меняется, он окружен сетью вниманья и услуг, он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен, ужас и слезы, когда он поднимает брови, и это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома – жаль же было и ее оставлять постоянно одну. К тому же трудно было, чтоб Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорностью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает без rancune[72 - Злобы (франц.). – Примеч. ред.], чтоб туча прошла. Покорная, безответная до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками.
Тереза, бедная, глупая Тереза Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства?
Влияние Серафимы на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен. Тереза развила подозрительность его в мелкую обидчивость и нехотя, без умысла рассорила его с лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умела порядком читать и никогда не могла выучиться узнавать, который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства.
Утром Руссо заходит к Гольбаху; человек приносит завтрак и три куверта: Гольбаху, его жене и Гримму; в разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. «Да останьтесь же завтракать», – говорит г-жа Гольбах и велит подать прибор; но уже поправлять поздно: Руссо, желтый от досады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили тарелки, намекая, чтоб он ушел. Ей такие рассказы по душе; в них она могла принять горячее участие: они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на М-me Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы (например, от Юма) и удаляется, оставленный всеми, в Монморанси, проклиная, за недостатком людей, воробьев и ласточек, которым бросал зерны.