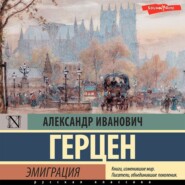По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Былое и думы. Эмиграция
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.
Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie…
Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться… я не знаю… ну, на Моцарта, например, зачем он не годился в драбанты[109 - Телохранители (польск. drabant).]. Это – возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие – барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.
Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказал ему:
– Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы всё ее забываете!
– Какую?
– Да то, что он умер в 1836 году.
Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем думает.
Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, им не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних, – это своего рода бегство от сомнений; она жаждет только деятельности прикладной – это своего рода лень. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.
Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, – он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.
Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом – очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.
Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо – Лавирона; с ним я недолго был знаком, он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии); в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.
Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в H?tel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, как Deus ex machina, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден par contumace[110 - Заочно (франц.).]. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы, – тут Июньские дни, потом проскрипции, ссылки, синий террор. В это самое время, однажды вечером, сидел я на бульваре перед Тортопи, в толпе всякой всячины, и, как в Париже всегда бывает – в умеренную и неумеренную монархию, в республику и империю – все это общество впересыпку с шпионами. Вдруг подходит ко мне – не верю глазам – Лавирон.
– Здравствуйте! – говорит он.
– Что за сумасшествие? – отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. – Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?
– Если бы вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь… я думал, думал, да и пошел гулять.
– Зачем же на бульвар?
– Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду…
– Куда?
– В Женеву, – так тяжко и так все надоело; мы идем навстречу страшным несчастиям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте – прощайте, и да будет наша встреча повеселее.
В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил. Вдруг объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата?.. Я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками», – говорил он триумвирам и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед, – когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром.
Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд божий над преступным изменником отечества!
* * *
…Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.
Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.
Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку – он «во всех классах учится прилежно», и в этом вся его история; на Страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, много страдал; он купил право на протестантизм Тридцатилетней войной, право на независимое существование, т. е. на бледное существование под надзором России, – борьбой с Наполеоном.
Его освобождение в 1814–1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Landesvater[111 - Отец своих подданных (нем.).], в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й парад (сорок четвертый был до революции), – тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гёте – в Веймаре.
Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т. е. недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.
Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее: то, чему они покоряются, может быть, и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому из видов, – это кривление душой за взятки.
Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так, как верит в «почетный легион», в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen[112 - Благоденствию (нем.).], к покою и, переходя из своего кабинета в Prunkzimmer[113 - Парадную комнату (нем.).] или спальню, жертвует халату, покою и кухне свободную мысль свою. Немец большой сибарит; этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, – такой же эпикуреец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.
Все немецкие революционеры – большие космополиты, sie haben ?berwunden den Standpunkt der Natio-nalit?t[114 - Они преодолели точку зрения национальности (нем.).] и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.
При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн – там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.
«Воинственный» конвент, собиравшийся в павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache[115 - Весьма видных в своей области (нем.).] профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов, рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt![116 - Одноплеменном (нем.).]) брал за живое только с точки зрения «Тейтчтума»[117 - Германизма (старонем. Teutschtum).]. Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые поползновения удержать неправое стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.
Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гётевской комедии «Der B?rgergeneral»[118 - «Генерал-гражданин» (нем.).].
Не было города, «пятна» в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка «Комитета общественного спасения», со всеми главными деятелями, с холодным юношей Сен-Жюстом, с мрачными, террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал; они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Колло д’Эрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами[119 - Горничными (нем. Stubenm?dchen).], – это был Дантон, eine schwelgende Natur![120 - Широкая натура (нем.).]
Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris[121 - Такого задорного парижского мальчишку (нем. и искаж. франц.).] в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, заветреничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.
После дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:
– Революция – гроза, – тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью… надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять «Гору» 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии; намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился терроризовать мою улицу. «M?nner![122 - Ребята! (нем.).] – говорю я моему отряду. – Под опасением военного суда, который при осадном положении может сейчас лишить вас жизни в случае ослушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и под строгим прикрытием приведен ко мне». Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал, но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже…
– И, – сказал я с ужасом, – и она?
– И она их отводила домой, – прибавил гордо и самодовольно террорист.
К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.
Исправлявший должность министра внутренних дел – юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «Vom andern Ufer», писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр per interim приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво… и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так прошло с неделю. Капп и я – мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской сто франков вперед за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то что он не переписал еще и на десять.
Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.
Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, бюргеру[123 - Гражданину (нем. B?rger).] и брудеру[124 - Брату (нем. Bruder).] лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.
– Ну, так я отошлю ему деньги mit Verachtung[125 - С презрением (нем.).], – сказал министр.
– Что за вздор! – закричал один фрейшерлер. – Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель der Besitzenden[126 - Имущих (нем.).]. Согласны?
– Да, да, согласны, браво!
– Выпьем, – кричал оратор, – и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера.
– Да, да, не надобно кланяться.
Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.