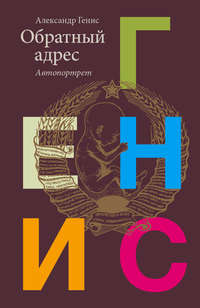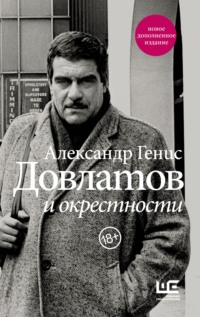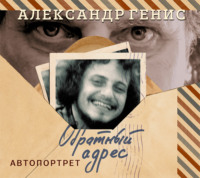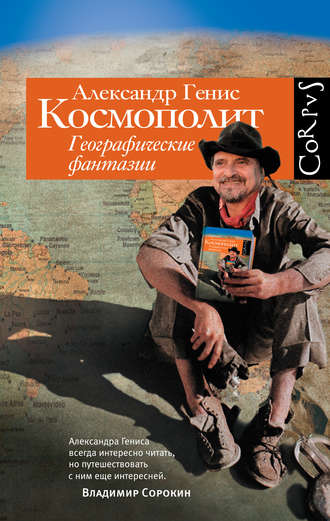
Космополит. Географические фантазии
Глядя на вещи с геологической точки зрения, можно сказать, что империя разливалась как магма: все, что с ней соприкасалось, становилось ею. Византия – созерцательная фаза римской истории. Был меч, стал щит, но метаболизм – тот же. Империя могла выжить, лишь переваривая варваров, в том числе – наших.
Для нее они, впрочем, все были на одно лицо, которое ей было лень разглядывать. Даже тогда, когда византийцы встречались с русскими в бою и в постели, они звали их, как Геродот, – тавроскифами. Считалось, что в их земле не светит Солнце и живут сказочные звери – зубры, моржи и белые, что особенно поражало не знавших настоящей зимы южан, зайцы. Еще империю интересовали икра и, как всегда, солдаты.
Война, однако, бывает и формой осеменения. Разрушив Храм иудеев, римляне разнесли по своей империи губительный для язычества монотеизм. Китайцы, выгнав лам из Тибета, сделали его религию всемирно известной и опасно притягательной. Разграбив Константинополь, крестоносцы украсили Европу, начав с ее лучшего города. Когда послы уже совсем умирающей империи отправились на Запад, чтобы умолять о спасении, они проезжали сквозь Венецию зажмурившись, не желая оплакивать родные колонны и статуи.
Последний византийский город, Венеция сохранила связь с Римом – и со вторым, и с первым. В ней еще бьется нерв той универсальной античности, которая не снисходила до раздела ойкумены на Восток и Запад. Не потому ли мы и любим ее так истерически, что тут нас стережет второе дно?
– Первое дно, – как объясняют историки, – стало причиной возникновения города, ибо оно спасало Венецию от пришельцев. Ее крепостью была лагуна: для конницы – слишком глубокая, для флота – слишком мелкая.
История становится собой только со второго раза – не когда происходит, а когда в нее играют. Прошлое обретает универсальную ценность в процессе стилизации: каждая культура ищет себе историческую рифму, замыкающую национальный характер в сонет, оперу или роман на манер Вальтера Скотта.
Так немецкие романтики из XIX столетия перекочевали в XVI, назначив его золотым веком тевтонской древности. Обставив ее мейстерзингерами, Дюрером и фахверковыми кварталами, они создали уютный миф, сумевший пережить войну. Щелкунчик в конечном счете победил Гитлера. Франция предпочла XVII столетие, которое в глазах благодарных, особенно иностранных, читателей останется веком мушкетеров. Англия Диккенса и Шерлока Холмса выбрала викторианскую эпоху. Китай – уже на наших глазах – освоил мифотворческий потенциал своих классических династий, обнаружив, что из них получаются самые красивые фильмы.
Но еще задолго до беспринципного постмодернизма проект трансформации сухой хроники в увлекательную беллетристику предложил Константин Леонтьев. «Византия, – писал он, – представляется чем-то сухим, скучным, поповским, даже жалким и подлым, потому что среди русских не нашлось писателя, который посвятил бы ей свой талант».
Вот почему мы можем перечислить Людовиков, но не Константинов, Генрихов, но не Львов. Перепутав империи, мы играли в рыцарей Запада, а не Востока. Пушкин писал про крестоносцев. Даже русский «Годунов» – трагедия шекспировская, как и ее герой – ренессансный самозванец. Что касается славянофилов, то они не писали романов. В результате единственный византийский боевик – «Андрей Рублев». И еще – знаменитая книга Аверинцева. В ней я прочел про константинопольских евнухов.
«Всякое начальство, начиная с императора, – объяснял Аверинцев византийский взгляд на вещи, – не от мира сего. Оскопить ради службы чиновника – значит избавить его от земных соблазнов и уподобить ангелам».
Как раз такие обитатели бюрократического рая густо населяют самое византийское сочинение в мире – «Замок» Кафки. Но наших классиков этот сюжет не волновал. Впрочем, был случай, который мог бы изменить ситуацию. В начале второго тома «Анны Карениной» Вронский встретил товарища по пажескому корпусу Голенищева: «У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, – начал он длинное, горячее объяснение».
Но мы никогда не узнаем подробностей, которых Томасу Манну хватило бы на тетралогию, потому что Толстого не интересовал предмет и раздражала горячность. «Несчастие, – замечает Вронский, – почти умопомешательство видно было в этом подвижном, довольно красивом лице в то время, как он… продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли». Достоевского, в отличие от Толстого, Византия волновала неистово. Особенно – Константинополь, самая «великолепная точка Европы и земного шара». В «Дневнике писателя» Достоевский требует ее для России. Константинополь должен быть наш, – криком кричит он, словно подпрыгивая от нетерпения.
Стамбул, кажется, манил его, как Крым беспризорников: там тепло, там яблоки. Но зачем Москве Второй Рим, чтобы стать Третьим, я до сих пор не могу понять. И не смогу, если верить архимандриту Джорданвильского монастыря, согласно учению которого концепция Третьего Рима доступна только православным. Но я все же из зависти в нее заглянул.
Империя, – размышлял русско-американский иерей, – может быть только одна, и она – наша. Рим объединил мир, чтобы Христос не отвлекался. С тех пор задача всех преемников кесарей – хранить православное царство, ни с кем не делясь, а главное, ничем не соблазняясь. Поэтому архимандрит благословляет две беды, спасшие русский народ от искушений Запада: татарское иго и «железный занавес». Благодаря им Москва все еще сохраняет надежду стать Третьим Римом, чтобы спасти человечество, послужив ему трамплином к небу.
Безупречность этой византийской логики – в отсутствии исторических разрывов. Не признавая пунктира, она придает прошлому смысл, трактуя обыкновенную историю как священную.
Одержимость бескомпромиссностью этого вектора (отсюда и в вечность) делает последним византийцем Солженицына. Вернувшись домой, он объявил отчизне рецепт спасения от смертельного недуга, диагноз которого был им так красноречиво и мужественно поставлен еще в прежней жизни. «Единственная надежда русских, – сказал Солженицын при большом стечении народа, – в том, что они должны стать воистину христианским народом». Услышав такое, мой друг-философ Пахомов привычно пригорюнился: «Опять нам быть первыми».
Мой Константинополь был слишком долго Стамбулом. К тому же впервые я угодил в него в тот день, когда власть в стране захватила армия. Для турок этот переворот был уже четвертым, но для меня первым, и я решил запечатлеть исторический момент. Военным это не понравилось, и пленку у меня отобрали вместе с камерой.
– Янычары, – громко объяснила мне жена, забыв, что как раз тут этим именем гордятся.
Уйдя от греха подальше, мы отправились в исторический центр, но не увидели его. Между нами и достопримечательностями каждый раз оказывался торгующий коврами мужчина в бордовой феске и белых штиблетах, как у Остапа Бендера. Вспомнив, что тот тоже был турецким подданным, я сдался. С тех пор на стамбульском ковре живет наш кот, а Византию я ищу в дальних окрестностях ее бывшей столицы.
– Знаете, – признался я своему белградскому издателю, – готовясь к балканскому путешествию, я по привычке начал издалека, вызубрив имена византийских императоров и даты великих сражений.
– Напрасно, – хмуро ответил он, – наши руины – недавнего происхождения, к тому же у их автора имя не греческое, а латинское: Пентагон.
Но церкви все-таки были нашими, византийскими. В самую старую нас привезли слушать древний акафист. Нам повезло: исполнять его согласился звезда византийского вокала Павле Аксентиевич, для простоты называвший себя Драгославом. Поскольку выступал он только в храмах, нам пришлось долго ждать, пока отпоют старушку. Зайдя в церковь, иностранцы пугливо отошли в сторону, а свои включились в церемонию. Глядя, как драматург Миливое, страстный поклонник Хармса и Довлатова, истово кладет поклоны, я понял, что церковь и тут на подъеме. Не умея принять участия в службе, я решил скоротать время, подружившись с видным греческим поэтом.
Анастасиса отличала стать Ахилла, бруклинский акцент и умные до вороватости глаза левантийца. Видя в каждом эллине Гомера, я пристал к поэту хуже пиявки.
– Гиббон назвал греческий язык, – подмазывался я к эллину, – самым удачным созданием человеческого гения. Но мне, увы, удалось выучить на афинских улицах лишь одно звучное слово: МАЛАКА.
Я понял, что ляпнул, когда Анастасис сложился пополам, и на нас зашикали монахи.
– В приличном переводе это означает призыв к сольной любви, – разъяснил грек, отдышавшись, и по-свойски добавил: – Если не дают.
Лед тронулся, и мы бы перешли на «ты», если бы не говорили по-английски. Сперва прошлое поэта внушало мне подозрение: уж слишком хорошо он знал мою историю, включая даты пленумов. Ну кто еще помнит отчество Микояна? Но потом я забыл о его левых симпатиях, ибо меня волновала судьба другой империи.
– Видите ли, – объявил я не без заносчивости, – сюда меня привел семейный интерес: мы ведь наследники Византии.
– А мы и есть Византия. Для нас она никогда не кончалась. Вот она, – твердо сказал он, показывая на полных мужчин, согласно затянувших одну, не меняющуюся ноту. – Это – наш оркестр: басы-исократы, а там, – ткнул он в правый угол, – ждет своей очереди второй хор: антифония.
– Для звучности? – не понял я.
– Нет, чтоб прихожане не заснули. Музыка Византии, как вся ее история, монотонна до святости. В этом – ее сила. Тут никогда не терпели прогресса, ибо считалось, что единственное будущее, которого стоило ждать, – вечность.
Мы вышли во двор и посмотрели на синее балканское небо, чтобы сравнить его с золотым потолком, в котором парил Пантократор.
– Ничего похожего, – сказал я.
– О том и речь, – согласился грек.
Мой Рим
Теперь-то мне кажется, что я никогда не жил без Рима, хотя на деле я никогда не жил в пределах его империи. На север она простиралась до 56-го градуса, Рига стояла на 57-м. Из-за географического положения город был заведомо лишен тех поэтических вольностей, что позволяют выпустить иллюстрированный том «Киев времен Траяна».
– Устарела твоя книга, – устыдили меня приятели, показывая свежую брошюру «Казаки против Ксеркса».
Эстонцы зашли с другого конца. В стихах, считавшихся в 60-е подпольным гимном нации, они сравнивали себя с дикими галлами:
И сказал Верцингеторикс: Цезарь!Ты отнял землю, на которой мы жили.Цезарь, однако, никак не походил на Брежнева, скорее уж на Хрущева, но только лысиной, которую тот прикрывал панамой, в отличие от Гая Юлия, прятавшего ее под лавровым венком.
Латыши выбрали окольный путь. Если эллины считали варварами тех, кто мямлил «бар-бар», не владея человеческой, то есть греческой, речью, то для римлян цивилизация кончалась там, где вымерзали виноградники. Пивом баловались только дикари. «Их напиток, – писал Тацит, не скрывая отвращения, – ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина». Признав, что виноделие – цена римской прописки, курземские селекционеры засадили лозой южный склон одной отдельно взятой горы. Как и все остальные латвийские вершины, эта достигала лишь такой высоты, чтобы зимой с нее было удобно скатываться на портфеле.
Путь к единственному на всю Прибалтику винограднику лежал через поселок Сабиле. Его другой достопримечательностью была синагога, которую в войну сожгли вместе с евреями (цыган спас городской голова, за что они ему поставили памятник). Спросив в кабачке дорогу, мы услышали усталое: «Не промахнетесь». Шоссе и правда упиралось в пригорок, засаженный хилой лозой с мелкими гроздьями и аппетитными улитками. Компактные кущи охраняла высокая ограда с кассой. За небольшую мзду нам достался экскурсовод.
– При герцоге Якобе – заливался он, – наше вино экспортировалось в Европу, где оно славилось своей крепостью.
Я намекнул на дегустацию, но напрасно.
– В год, – прозвучал сухой ответ, – всего двести бутылок для важных мероприятий. Президентские банкеты – раз; велопробег «Сумасшедший виноградарь» – два…
– Но вы-то пробовали?
– Гадость такая, что лучше не спрашивайте. Зато оно вошло в книгу Гиннесса – как самое северное. Никто не знает, где виноград родился, но умирает он на другом склоне этого холма.
«Трудным, – справедливо писал Гораций, – делает Вакх тем, кто не пьет, жизненный путь». Я слушался римского поэта еще тогда, когда не умел распутывать его головоломные гекзаметры. Они соединяют ловкость Пушкина с запутанностью кишечника. Неудивительно, что, погрузившись в потроха латыни, можно набрести там на упакованную, как чемодан, строфу Бродского.
Сам я мечтал об оригинале, веря, что второй язык обязан быть римским. Жизнь с ним кажется торжественной – как с вином. С раннего детства я принимал Рим лошадиными дозами и до сих пор думаю, что классическая стадия – неизбежная фаза в эволюции эмбриона на пути от земноводного к пенсии. Я искал урок героизма у Плутарха, а не в «Молодой гвардии», как уговаривала меня школа. Я тосковал по гимназической античности. Я готов был учиться у «человека в футляре». Уже студентом, нахальным и безалаберным, я прилежно зубрил безумное третье склонение, которое ведет себя не лучше Калигулы, если судить по знаменитому порнографическому фильму. «Лишь теперь, – признался Виктор Некрасов, посмотрев его, – я узнал, на что способна тоталитарная власть».
Сталина, надо понимать, ему не хватило.
Интересно, что Рим и впрямь веками стимулирует сексуальную фантазию наиболее просвещенной части человечества. Похоже, мы не способны себе представить, на что, кроме разврата, годится абсолютная власть. Что напоминает русскую сказку: «Живу, как царь, кто ни пройдет – в морду».
Устроившись на прокрустовом ложе подросткового воображения, римская история растянулась между непомерными доблестями и беспредельными пороками. Читая о последних у Светония, я наконец смог употребить вымученные знания, чтобы перевести с помощью большого (а не скромного, студенческого) словаря отрывок, застенчиво оставленный русскими издателями на латыни. Так я узнал, как называлось то, что у нас пишут на заборах: mentula.
Соблазн латыни, однако, не в лексиконе, а в грамматике. Ее синтаксис, как Лев Толстой, берется объяснить все на свете. Это – язык цивилизации. С помощью союзов он навязывает миру причины и следствия, предпочитая видимость порядка анархии бессоюзного равноправия. Именно поэтому латынью пользуется каждая страна, претендующая на свою долю римского наследства. Так, в Петербурге, где плотность колонн больше, чем на Форуме, памятники изъясняются с римской краткостью. На одном, одетом в консульские доспехи, написано просто: «Суворову». Это и есть латынь с ее умением строить предложение из косвенных падежей.
Лишь под напором отчаяния, как это случалось у Сенеки и Беккета, синтаксис разваливается на равно важные и никому ничем не обязанные фрагменты речи. И тогда нам слышен голос не родины, а души. Ей, уставшей от насилия порядка, дает высказаться поток сознания, в том числе – скифского:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…
Горация меня научил любить Гаспаров, тот самый – Михаил Леонович. «Главная строка, – писал он, – всегда первая: ода – не басня: морали не будет». Стихи Горация, понял я, только кажутся банальными и говорят об одном: живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август.
С Аверинцевым, который больше любил Вергилия, мне довелось говорить на радио.
– В чем смысл империи? – спросил я его в год, памятный для Беловежской пущи.
– В том, – ответил он мне 25-минутной лекцией, – что каждая считает себя единственной. Империю убивают не варвары, а утрата веры в исключительность своей правоты.
Мне, похоже, выпало жить сразу в двух империях, развивающих этот тезис. Если Москва – третий Рим, а Петербург – четвертый, то Вашингтон – пятый. «Здесь, – сказал Менделеев, посетив Америку, – повторяют на новый манер старую римскую историю». Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вест-Пойнте преподают Полибия, в Белом доме портят весталок, и каждый доллар говорит на латыни: «Novus ordo seclorum».
«Новый порядок» вещей оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка решает жгучий вопрос: в каком веке Римской империи она живет – серебряном втором или железном третьем?
При этом в глубине души Америка, что бы ни думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны – Голливуд – постоянно отпихивает роль Рима, которую Америке навязывают обстоятельства. Если политический ритуал Америки настоян на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. В не выходящих из моды фильмах «сандалий и тоги» добро приходит с окраин римской ойкумены. Отождествляя себя на экране с неиспорченным дикарем, Америка играет роль новичка, не испорченного роскошью уже тогда старого света. Обычно это – гладиатор-христианин на раскаленной арене.
Но, спрашивается, кто же тогда Рим в этих пышных декорациях? Тоже Америка. Она сама себе раб и хозяин: оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства.
С ним, впрочем, после 11 сентября стало сложнее. Ощутив собственную хрупкость, цивилизация простила создавших ее «мертвых белых мужчин», многие из которых носили тоги. Об этом еще никто не говорит, но уже все знают: 11 сентября кончилось смутное время мультикультурализма. «Это – не война цивилизаций, это – война за цивилизацию», – сказал Тони Блэр.
Террор разбудил давно уснувшую любовь к классике, которая постепенно вновь вползает в жизнь взамен еще недавно столь любимой (в том числе и мной) архаики. Сегодня заигравшаяся с первобытными стихиями цивилизация вспомнила, что, собственно, было до нее: темно, страшно, скисшее пиво.
Встретившись с варварским напором, мы забыли романтическую мечту о благородном дикаре. Его труп погребли руины «близнецов».
Рим нам стал примером потому, что его границы определены не пространством, а временем. Этим одна античность отличается от другой.
Римляне жили в исторически обозримых параметрах: 753–410. Зато Эллада – бездонна, а греки – кентавры. История эллинов началась в животном царстве. Об этом проговариваются химеры. Глядя на них, мы чувствуем, что рубеж между зверем и человеком размыт и Homo sapiens – еще свежая новость.
Рим – другое дело. Как Америка, он помнит себя со дня рождения. Еще важнее, что мы точно знаем, как и когда он умер. Греков, скажем, сколько угодно. Один, скорняк, даже живет в соседнем доме. А вот римлян больше нет – и не будет.
«Я выбрал профессию, – сказал на склоне лет тот же Гаспаров, – которая оказалась короче жизни». Сперва меня удивило, что даже Рима ему было мало. Потом я понял, что имелось в виду. Рим обозрим и закончен. Каждый отличник может прочесть всё (всё!), что от римлян осталось, а до нас дошло.
Изучив его прошлое глубже своего, мы увидели в Риме Ветхий завет Запада: перечень мудрых законов, которые не спасли от роковых ошибок. Чтобы исправить их, понадобился Новый завет с историей, но и она может завершиться не лучше предыдущей. Рим позволил нам включить в свое историческое сознание опыт смерти.
Когда я впервые оказался в Риме, до этого было еще далеко. Гаспаров, встретившись наконец с настоящим Римом, не хотел выходить из отеля, чтобы не испортить сложившегося за долгую жизнь впечатления. Для такого стоицизма я был нетерпелив и молод, что уж точно не мешало любви.
В день первого свидания меня сопровождал не Тацит, а Феллини. Смеркалось. Идя по городу, я перемещался из дневного «Рима» в вечернюю «Сладкую жизнь», надеясь добраться до «Сатирикона». Выйдя за городские пределы, миновав гетер, встречавших грузовики, я шагал в беззвездной тьме.
Теперь я ничего не видел, но все помнил. От окружающего осталось только название: Аппиева дорога. Я шел по ней, не беспокоясь о возвращении. Кто же не знает, что все дороги ведут в Рим.
По пути в Венецию
В январе даже в Италии темнеет рано, а когда ночь прячет архитектуру от завистливого глаза, в городе остается только луна, вода и люди. Молодых немного, разве что – гондольеры. Один обнимал красивую негритянку. Она могла бы быть правнучкой Отелло, если бы тот доверял Дездемоне. Но чаще всего на улицах – старики. Мягкое время года они пережидают в недоступных туристам щелях. Зато морозными вечерами старики выходят на волю, как привидения, в которых можно не верить, если не хочется. Живя в укрытии, они состарились, не заметив перемен. Дамы все еще ходят в настоящих шубах.
За одной (она была надета на пышную, как Екатерина Вторая, старуху) я ходил весь вечер. Роскошное манто ныряло в извилистые проходы, сбивая с толку лишь для того, чтобы призывно показаться на близком мостике. Я шел по следу с нарастающим азартом, пока старуха окончательно не исчезла в казино. Только тут мне удалось остановиться: я вспомнил «Пиковую даму».
Старики в Венеции носят пальто гарибальдиевского покроя. По странному совпадению, я сам был в таком. Полы его распускаются книзу широким пологом, скрадывающим движения и прячущим шпагу, лучше – отравленный кинжал. Сшитый по романтической моде, этот наряд растворяется в сумерках без остатка. Чтобы этого не произошло, поверх воротника повязывается пестрый шарф. Нарушая конспирацию, он придает злоумышленникам антикварный, как все здесь, характер. Поэтому каждому встречному приписываешь интеллигентную профессию: учитель пения, мастер скрипичных дел, реставратор географических карт.
Одну из них я как следует рассмотрел во Дворце дожей. К северу от моря, которое мы называем Каспийским, простиралась пустота, не населенная даже воображением. Карта ее называла «безжизненной Скифией». На другом краю я нашел Калифорнию. Вокруг нее расстилалась другая пустыня: «земля антропофагов».
Не пощадив ни старую, ни новую родину, венецианская география предложила мне взамен такую версию пространства, которая лишает его здравого смысла. Здесь все равно – идти вперед или назад. Куда бы ты ни шел, все равно попадешь, куда собирался. Тут нельзя не заблудиться, но и заблудиться тоже нельзя. Рано или поздно окажешься, где хотел, добравшись к цели неведомыми путями. Неизбежность успеха упраздняет целеустремленность усилий. Венеция навязывает правильный образ жизни, и ты, сдаваясь в плен, выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении.
Отпустив вожжи, проще смотреть по сторонам, но зимней ночью видно мало. Закупоренные ставнями дома безжизненны, как склады в воскресенье. Обитаемое жилье выделяется желтым светом многоэтажных люстр из Мурано. Просачивающийся сквозь прозрачные стекла (в них здесь знают толк), он открывает взгляду заросшие книгами стены и низкий потолок, расчлененный почерневшими за века балками. Видно немного, но и этого хватает, чтобы отравить хозяина и занять его место.
Я поделился замыслом с коренной венецианкой, но она его не одобрила.
– Знаете, сколько в этом городе стоит матрац?
Я не знал, но догадывался, что с доставкой по каналам обойдется не дешево.
– В наших руинах, – заключила она, – хорошо живется одним водопроводчикам: тут все всегда течет.
Первый раз я попал сюда из Рима, где начинающие эмигранты ждали визу в Америку и обживали Италию с помощью пообтершихся товарищей, устраивавших экскурсии на Юг или Север. Я выбрал последнее направление, хотя, казалось бы, недавно оттуда приехал.
Путь к Сан-Марко лежал через барахолку с обманчивым названием «Американо». Русские всех национальностей торговали здесь скарбом, вырванным напоследок у империи. Хуже всего шли матрешки. Даже мы не знали, что с ними делать. Зато, как это повелось с древности, римляне ценили варяжский янтарь. И еще – ленинградский фотоаппарат «Смена» с цейсовской оптикой. Держа в одной руке камеру, а в другой бусы, я, приплясывая от нетерпения, торопился втюрить свой товар недоверчивым прохожим. Торговля шла вяло. Твердо по-итальянски я знал только слово «Чипполино». Зато говорил на латыни: «Exegi monumentum aere perennius
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: