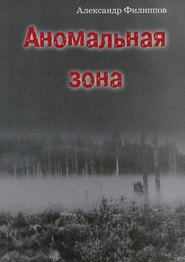По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возврати его в преисподнюю. Сказка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вслед за постанывавшими от непосильной ноши мужиками выскочила сгорбленная годами, но довольно шустрая старушка, обряженная, несмотря на летнюю теплынь, в тёмное, до пят платье, шерстяной платок, накинутый на костлявые плечи. Она опиралась на длинную, толстую палку с чилижным, должно быть, веником на верхнем конце.
– Ой-ёй-ёшеньки! – в голос причитала бабка, норовя изловчиться, и огреть метлой то одного, то другого мужика по согбённой спине. – Сил моих больше нет на энтих обалдуев смотреть! Антигравитатор у них не контачит! Чтоб вас мухи навозные съели! Две тыщи лет контачил, летала ступка моя, как ласточка, а щас на тебе – контакта, вишь, нет! Дармоеды!
– Дык, – оправдывался один из носильщиков, – сами ж говорите – две тыщи лет, маманя! Алатырь-камень стёрся, пылью зарос. Я по нему давеча пусковым ключом чиркал, чиркал – так даже искры нет…
– Нечему там ломаться! – визгливо гнула своё бабка. – Это ж виман, вечная, можно сказать, вещь! Отечественная разработка. Не какой-нибудь импорт, вечный двигатель, перепетуй, язви его в душу, мобиле! Никаких тебе деталей и механизмов. Одни физические прынципы! Вон, Горыныч, – не то, что вы, оба-двое, обалдуи, толковый мужик. Поскоблил, ветошью, где надо, протёр, всё и заработало!
– Ничо вечного, мамань, не бывает. А ступка… Када по тебе в сорок втором годе из пушки зенитной влёт долбанули, она и забарахлила…
Глеб Сергеевич, вжимаясь в стену, с замиранием сердца вслушивался в этот лишённый всякого смысла, диалог.
Троица между тем, спотыкаясь неловко во тьме, направилась в сторону непроглядной чащи леса.
– Щас лётные испытания проведём, – басил примирительно кто-то из мужиков. – Воспарите, маманя, как на воздусях…
– На воздусях… – не угоманивалась старуха. – Пооговаривайся ишшо у меня! Ежели грохнусь с верхотуры, как давеча, я те по мусалам-то наподдам! Не допорола, видать в детстве. Ох, был бы папаня жив, Кащеюшка-то наш, он бы уму-разуму вас, недотыкомок, вмиг научил!
Выждав, когда странная троица, непрерывно бранясь, скрылась в ночи, отставной чиновник отлип, наконец, вспотевшей разом спиной от брёвен, вернулся на мощёную дорожку. Продолжать знакомство с усадьбой в столь поздний час ему решительно расхотелось. Кто знает, какие неожиданности ещё подстерегают его во мраке!
«Бредятина несусветная, – бормотал про себя Дымокуров. – Сумасшедшая прислуга. Бочки какие-то по ночам перетаскивают. Чем они тут вообще, вдали от глаз людских, занимаются? То ещё наследство досталось. С такой дворней нужно ухо держать востро»…
Осторожно ступая, он вернулся в дом, прикрыв за собою входную дверь, едва ли не на ощупь пробрался длинным коридором обратно в спальную. Плотные шторы на окнах были задёрнуты, не пропуская ни лучика лунного света.
Больно стукнувшись коленкой о какой-то острый угол, Глеб Сергеевич в кромешной тьме нашарил кровать. Откинул толстенное одеяло, разделся торопливо, кое-как разложив вещи на стуле. Ухнул с размаха в мягчайшую пуховую перину, провалился в неё с головой, как в омут, и мгновенно уснул.
9
Спал он плохо, беспокойно ворочаясь в жаркой постели, просыпаясь то и дело, маясь от привидевшихся кошмаров, от которых с пробуждением всякий раз оставались какие-то бессмысленные, жуткие обрывки воспоминаний.
В довершение ко всему с рассветом его остро приспичило по малой нужде. Прямо распирало всего.
Глеб Сергеевич никогда не мог понять, да и в реальной жизни не встречал, разве только в кино видел, людей, завтракавших, едва проснувшись, в постели. В обыденной жизни он и ему подобные после пробуждения сразу же, шаркая ногами нетвёрдо, брели в туалет, потом умывались под краном, смывая липкую сонливость с отёчных век, чистили зубы, брились, и лишь потом дело доходило до того, чтобы наскоро чем-то перекусить.
Вот и сейчас, окончательно проснувшись, он, вспомнив давешние наставления Еремея Горыныча, первым делом нашарил под кроватью ночной горшок.
Этот немудрёный, вышедший из обихода Глеба Сергеевича лет шестьдесят назад предмет изрядно его смутил.
Горшок был металлический, покрытый белоснежной эмалью, первозданно чистый.
Повертев в руках диковинную посудину, отставной чиновник открыл крышку, заглянул в нутро «ночной вазы», как изящно, вспомнилось ему, называли это пикантное приспособление в прежние, доканализационные времена.
На дне горшка был нарисован огромный, василькового цвета, довольно натуралистично с анатомической точки зрения изображённый, глаз. Который, немигаючи, с интересом будто бы, взирал на Дымокурова.
Это окончательно добило нового владельца поместья, не оценившего своеобразный фекальный юмор неведомых горшечных дел мастеров. Если канализации, тёплого туалета в доме за столько лет провести не удосужились, то наружный, то бишь, как его правильно – нужник, сортир? – должен существовать обязательно!
Глеб Сергеевич решительно задвинул горшок под кровать, и, торопливо натянув спортивное трико и футболку, нашарив ногами тапочки-шлёпанцы, промчавшись длинным безлюдным коридором, выскочил из дому.
Отхожее место, как ему представлялось, должно было располагаться где-нибудь на задах, в укромном закутке приусадебного участка.
По знакомой уже мощёной булыжником дорожке он шустро прошлёпал за угол дома.
Солнце ещё не поднялось из-за леса, над остывшей за ночь землёй клубился лёгкий туман. Невидимые стороннему глазу птицы пели в кустах, чирикали и щебетали восторженно, славя наступившее утро, на все голоса.
Отставной чиновник огляделся в поисках чего-то, похожего на будочку наружного туалета.
«Ну и порядочки в этой усадьбе! – возмущённо думал томимый малой нуждой наследник. – День уж наступил, а ни души не видать. Дрыхнут все, что ли?!»
Его внимание привлекла беседка, плотно затянутая разросшимся хмелем так, что не видно было, кто находился внутри. Однако голоса оттуда доносились громко, отчётливо.
Брезгливо ступая по мокрой от утренней росы траве, Дымокуров подошёл ближе. Наконец-то во всём доме ему встретился хоть кто-то, у кого можно что-то спросить…
Ещё не разглядев обитателей беседки, он уже понял, что разговаривают как минимум двое. Один басил с возмущением в голосе, другой вроде бы отвечал ему периодически мощным порыкиванием.
– Ну, ты сам рассуди, Потапыч, – рокотал, негодуя, обладатель баса. – Им же дозволено только санитарные рубки вести, а они здоровый, строевой лес валят! У них все – и егеря, и полиция куплены.
– У-у-рг-х, – грозно поддакнул собеседник.
– Во-от… – пробасил рассказчик. – Так я на электроподстанции пошуровал, контакты поотрывал к чёртовой матери, и лесопилку-то обесточил!
– Р-р-агх! – одобрительно рявкнул приятель.
– А меня менты на обратном пути замели. С контактами-то этими спалили…
– У-у-мра-а… – сочувственно вздохнул второй участник диалога.
– Ну, мне-то не впервой, – беззаботно хохотнул бас. – Отмазался. Глаз им отвёл – плёвое дело! – И, помолчав, предложил. – Ну что, Потапыч, ещё по кружечке?
– Р-ра-уу! – взревел, обрадовавшись, его собутыльник, который, похоже, лыка уже не вязал, а только урчал что-то не членораздельное.
Забулькало явственно.
Глеб Сергеевич вплотную приблизился к беседке, осторожно, стараясь не шуметь, раздвинул густую поросль хмеля.
И обомлел в ужасе.
За установленным посреди беседки, из тёсаных досок сколоченным столом, восседал давешний, с поезда, лохматый мужик-лесовик. Он был обряжен всё в тот же пятнистый камуфляж, даже сапоги-бродни не снял. А напротив него расположился, привычно устроившись на скамье… огромный медведь! Натуральный, без всяких сомнений, зверь, о чём свидетельствовала и распространявшаяся вокруг него, шибающая в нос кислая, как от старых валенок, вонь, сырой грязной шерсти.
Двумя лапами медведь держал вместительную, литровую, не иначе, деревянную кружку. Его собутыльник – лесовик щедро лил в неё мутный, слегка пенящийся напиток из ведёрной лохани.
Плеснув и себе, мужик выпил, утёр пятернёй усы и бороду, а потом, пригорюнившись, затянул с блатным надрывом:
– Если мы работаем в лесу,
Колем, пилим ёлку и сосну.
Колем, пилим и строгаем,
Всех легавых проклинаем,