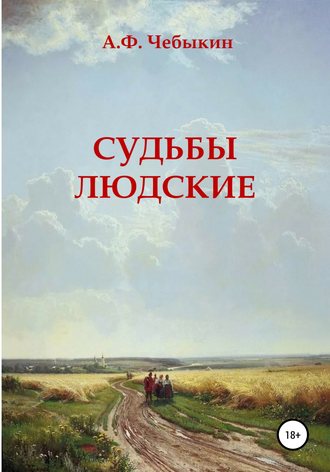
Судьбы людские
– Я Ваш разговор с Сосновцевым слышал. Судьба у нас одна. Во время того боя, когда его контузило, мой командирский БТР подожгли. Пока был в госпитале полгода, жена ушла с двумя детьми. Я тогда сдался. Душманам не поддавался, не трусил, а тут спекся. Скучал по детям, жене. Она была у меня красавица, видимо, застыдилась меня, калеку. Сами видите, с таким лицом на людях показываться неприятно. Сейчас с судьбой смирился, а тогда запил по-черному, чуть было из армии не выгнали. Куда бы я тогда. Я же Суворовское училище кончал. Отец после войны мало пожил, а мать с горя вскоре за ним ушла. Один оставался на белом свете, как перст.
Случайно встретил своего командира полка, который демобилизовался и работал вторым секретарем обкома. Взялся он за меня серьезно. Гонял из санатория в санаторий, где познакомился с выпускницей медучилища. Потихоньку, потихоньку у нас с Оксаной разгорелась любовь такая, что водой не зальешь. Она говорит, что ты у меня самый чистый и светлый человек на белом свете.
Заказала портрет именитому художнику, с той фотографии, когда я выпускался из училища. А когда художник Василий Петрович, царство ему небесное, увидел меня и побеседовали, то за портрет денег брать отказался. Говорил, что я Вам должен, как пример мужества и стойкости. Напросился второй раз в командировку. Покоя нет, тот бой по ночам снится, пока не разыщу того гада, который поджег меня, покоя не будет. Войне конец. Думаю, к дню рождения сына вернусь в Союз. Начальник политотдела дивизии сообщил, что в Москве на майора приказ подписан. Жду официального сообщения, с приказом на звание обещали разыскать представление на «Боевик» за тот бой. Я тут за полгода столько натворил, что, наверное, пригоршни для орденов не хватит.
– Я рад за Вас от души, что выстоял и не сломался. Слава Богу, что повидались. В долгие зимние ночи проведенные бои крутятся, как в калейдоскопе.
15 февраля 1989 года подполковник Устюжанин с офицерами штаба 40-й армии перешел границу Советского Союза. Шла весенняя сессия.
По возвращении из Афганистана Устюжанин почувствовал, что над Союзом нависла угроза распада. Душа болела: неужели труд трех поколений, кровь, пролитая в гражданскую, Отечественную, в Афганистане – и все это напрасно.
Капитал снова брал власть над миром.
В год погибели Великого государства – Союза Советских Социалистических Республик подполковник Устюжанин окончил военную академию. Впереди две поездки в Чечню.
2000–2005 годы – заведующий военной кафедрой в университете. В 2005 году полковник Устюжанин демобилизовался из рядов Российской армии.
Приобрел квартиру в городе Перми, поближе к родным местам.
В 1994 году сын Владимир поступил в Рязанское десантное училище. Когда на семейном совете обсуждался вопрос, куда поступать после окончания школы, решение было одно – в Рязанское десантное.
Полковник Устюжанин наказывал сыну: «Режимы приходят и уходят, а Родина у нас одна. В случае заварухи олигархи быстро смотаются за границу, там у них капиталы, а мы, россияне, останемся на своей земле и защищать ее, кроме нас – некому. Это наша Родина. Россия никогда не была под чужой пятой и не будет».
Развал Советского государства
Фитиль, подожженный Мишей Горбачевым, начал полыхать больше и больше. Искра была высечена в последние годы правления Брежнева. Андропов пробовал ее затушить, но было поздно – единомышленники уходили из жизни один за другим, а молодое поколение не подготовили к новым реалиям жизни.
В брежневские годы в партии начинался тихий застой. Каждый член ЦК старался удержаться на своем стуле и очень дипломатично кого-нибудь подсиживал, тихонько похлопывая по плечу, распиная вместе дорогой французский коньяк, съедали, чтобы пробраться выше по иерархической лестнице. Обсиживая свои теплые места, многие скопили неплохой капитал, втихаря вкладывая в иностранные банки, боясь всплыть тут. Переживали, не зная, куда его применить, как передать детям. Тряслись за свое место, а вдруг сшибут, куда тогда. А это значит – придется съезжать из престижной квартиры, терять медицинское обслуживание, отдых в лучших санаториях, положение в обществе, почет. Как говорится – сняли и забыли. И сразу вокруг пустота. Старые так называемые «друзья» на людях будут стыдиться здороваться. Но если капитал привести в дело, ты хозяин на все времена и пожизненно. Наследство твое – детям, внукам, правнукам. Приходилось задумываться, как это сделать и под каким лозунгом. Первое – это надо создать недовольство у народа тем строем, при котором живут, и показать новую конфетку в красивой обертке.
Заводы и фабрики работали на полную мощность и вдруг все стало дефицитом: спички, соль, одежда, обувь, керосин. Всем этим в одночасье можно было завалить население с ног до головы. Появились очереди за продуктами, молоком, мясом, хотя колхозы и совхозы, по донесениям, производили больше и больше. Получалась какая-то бестолковщина, неразбериха. Да, много пожирала армия, еще больше уходило на поддержку революционных режимов в Африке, Латинской Америке, Азии, но это было и при Хрущеве, при Брежневе, как-то выходили из положения.
Надо было поступиться неважным, а сохранить главное – это основы социализма в Союзе и в Европе, от того, что мешало, надо было временно отказаться: сократить расходы на армию и на зарубежную помощь. Бюджет бы быстро сбалансировался. Пересмотреть структуру армии. От разбросанности и раздробленности перейти к концентрации мощных ударных группировок по направлениям: Запад, Дальний Восток, Средняя Азия, неспокойный Кавказ. Недостаток продуктов первой необходимости создавал у народа недовольство, в первую очередь к руководящей и направляющей: Политбюро, объявляя о демократии, фактически теряло управление страной. Начались всходы махрового национализма. Сначала появились высказывания, что во всем виноваты евреи, а в республиках стали считать русских чуть ли не оккупантами. Республики исторически присоединялись добровольно, как при вхождении в состав России, так и образования Союза Советских Социалистических Республик. Первые секретари республик начали считать себя князьками. Говорят одно, а делают другое. Это было на руку американским империалистам. Советский Союз был для них бельмом в глазу. Имея огромные капиталы, начали создавать подполья, в первую очередь в странах Варшавского договора, подкармливая их, обильно снабжали деньгами, литературой, радиостанциями.
Соединенные Штаты начали мощную идеологическую обработку населения этих стран через радио, телевидение, издание книг, брошюр, одновременно подкупая руководство компартии. И это дало определенные результаты. Вместо того, чтобы твердо поставить на свои места врагов и колеблющихся, Горбачев занял позицию страуса, занялся демагогией.
Народ изначально верил ему, как привык верить первым лицам государства за долгие годы Советской власти. Проходят так называемые «бархатные» революции и страна за страной выходят из Варшавского договора. Михаил Горбачев попался на американские посулы: чтобы жить в мире, надо распустить Варшавский договор, и тогда они распустят НАТО. Варшавский договор был похоронен, а НАТО стало расцветать, принимая в свои объятия страны из развалившегося Варшавского договора. Утопив Варшавский договор, американцы бросили весь арсенал своих средств на разрушение Советского Союза, в первую очередь на обработку генерального секретаря М.С. Горбачева, министра иностранных дел Шеварнадзе, главного идеолога партии Яковлева. Они быстро переориентировались, попались на посулы и стали проводить политику на развал Советского государства и реанимацию капитализма. Это им удалось, так как руководство Союзных республик только этого и ждало. Партийная элита молчала, надеясь, что от распада государства им достанутся лакомые кусочки, что и подтвердили дальнейшие события. При приватизации государственная собственность оказалась в руках этих нелюдей, так называемых партийных бонз.
Народ в 1991 году не вышел на улицы, потому, что некому было его поднимать и организовывать. Бывшее партийное и государственное руководство сидело на тех же стульях, но в новых должностях.
Народ устал от безвластия, бескормицы и неопределенности – решил: хуже не будет, лишь бы не было снова Гражданской войны. Старшее поколение об этом помнило на примере отцов и дедов. Легко разрушить, растащить, но очень тяжело собрать. И разлетелось могучее государство, создаваемое тысячу лет, на мелкие национальные куски. Только от этого никому лучше не стало: разрубленными оказались не только экономические связи, но и родственные. Люди, живущие дружной семьей, оказались по разную сторону великого разлома. Больше всего пострадали русские, в годы пятилеток направленные на ударные стройки в союзные республики, оказались пленниками и заложниками. Они строили фабрики и заводы, обучали национальные кадры, а сейчас, никому не нужные, – стали изгоями. При возвращении в родные места, в Россию, для них нет ни работы, ни жилья, и здесь они стали нежелательными, людьми второго сорта, персонами нон грата. Бывшие первые секретари стали президентами с неограниченными полномочиями, которые сами себе устанавливали сроки правления и переизбрания.
Разорванные политические связи быстро сказались на экономике. Во многих республиках производство скатилось на дореволюционный уровень. Народ существовал на полуголодном пайке подачек из-за границы в виде займов.
Окаянный Ельцин своими амбициями, бестолковостью, властолюбием бросил под хвост семидесятилетние завоевания социализма. Скоропалительными методами стал насаждать капитализм.
На юге страны возрождалось казачество, основу которого составляли две ветви – это потомки белого казачества и ущемленных советской властью зажиточных казаков, а также бедные и сирые колхозники, после развала колхозов оставшиеся без работы и средств к существованию. Те и другие ругали коммунистов: одни за старые обиды раскулачивания, другие что коммунисты довели народ до черты бедности и сталкивали его в бездну. Ельцин умело использовал эту силу, как опору своей власти. Стал подкармливать и привечать верхушку казачества. Внутри Российской Федерации начались распри за владения природными богатствами между московскими олигархами и местной молодой буржуазией, особенно ярко это вылилось в национальных республиках Северного Кавказа, Урала и Сибири. Башкортостан, Якутия, Бурятия быстро соорентировались в обстановке и поняли, что с центральной властью враждовать нельзя.
Татарстан провозгласил свою государственность, что было смертельно опасно – в сердце России возник мощный нарыв. Если не вскрыть, то могло быть заражение всего организма Российской Федерации и погибель России. Только время расставит все на свои места.
Боевое братство

Мотопехота
После окончания десятого класса у Володи не было большого желания продолжать учебу. Был рад, что избавился от учебников. Настроился служить в армии. Впереди год свободы. Решил поработать слесарем на ТЭЦ. В мае 1979 года Чебатков Владимир Николаевич с радостью проходил комиссию при Советском райвоенкомате города Краснодара. Шестимесячные сержантские курсы в городе Самарканде. Осень 1979 г. – служба в Прибалтике. В январе 1980 г. батальон мотопехоты прибыл в Кабул. Командир роты капитан Росляков обратил внимание на исполнительного командира отделения сержанта Чебаткова и ставил его в пример другим младшим командирам. В задачу батальона входило – охрана объектов и сопровождение грузов.
Бои за высоту
В марте личный состав роты приступил к охране линии связи, которая осуществлялась радиорелейными станциями, расположенными друг от друга на расстоянии 50 километров. Взвод старшего лейтенанта Николая Серебрякова занял оборону вокруг одной из таких РЛС на площадке диаметром около ста метров.
На вершине горы по периметру располагались окопы, каждый с расчетом на три-четыре человека.
Расстояние между окопами до тридцати метров.
По углам стояли четыре танка, обложенные крупными валунами. Танки могли маневрировать.
27 марта. В сумерках наблюдатели-танкисты через приборы ночного видения заметили продвижение большой массы людей к высоте. Подали сигнал тревоги. Заняли круговую оборону. Доложили командованию, что к РЛС пробиваются душманы, около пятисот человек. Из штаба передали: «Высоту удержать, она господствующая над местностью. Высылаем подмогу. С утра склоны горы будем обрабатывать системой «Град». Сигнальные ракеты зависали над склоном. Местность ярко освещалась. Душманы хорошо просматривались. Можно было вести прицельный огонь. Танки передвинули к южной стороне, откуда лезли душманы. Танкисты, ротные пулеметы, автоматчики вели беспрерывный огонь по противнику. Запасов снарядов и патронов было предостаточно. Душманы то откатывались, унося убитых и раненых, то снова атаковали. И так до утра. Утром установки «Град» с интервалом 10–15 минут наносили ракетные удары по выявленным целям. Только в конце боя, перед обедом, защитники РЛС узнали, что душманам нужен был проход.
В обход горы шла тропа в дальние горы, их вторые сутки преследовали десантники. Взвод лейтенанта Серебрякова отбил атаки душманов, спас станцию РЛС от разгрома и помог блокировать противника и уничтожить полутысячную банду душманов.
Через месяц взвод лейтенанта Серебрякова заменили другим. После передышки бросили на новый участок.
Засада
В октябре взвод Чебаткова сопровождал транспорт с оружием в составе шести КРАЗов из Кабула в Кандагар. На полпути, на одном из перевалов попали в засаду. Слева отвесная скала, справа обрыв. Десятки гранатометчиков открыли огонь со стороны скалы. Машины загорелись. На одной из них стали рваться снаряды. На голой горной дороге спрятаться негде.
Старший лейтенант Серебряков подал команду: «Убитых и раненых забрать, прижаться к скале и вперед, а за поворотом взбираться на вершину». Пока душманы растаскивали груз с захваченных машин, бойцы успели взобраться на сопку. С трех сторон она обрывалась отвесно вниз и только с одной стороны была возможность на нее взобраться. Вскоре душманы сунулись, но получив отпор, отошли, унося убитых. Серебряков приказал: «Огонь вести только прицельный. Беречь патроны». Радист оказался легко ранен. Рация цела. Связались с командованием. Передали: «Продержаться до утра». С рассветом подлетели вертушки, обработали склон сопки и улетели. Командир группы кричал, нарушая всякие условности: «Нам нужна помощь, половина взвода убитые и раненые». Через полчаса прилетела еще одна пара, но при заходе на посадку, над ущельем, был сбит один вертолет. Второй зашел с противоположной стороны и удачно сел.
Бойцы ликовали. Первым рейсом отправили тяжелораненых. Прилетала еще пара. Прочесала местность, по наводке, ракетами и пулеметным огнем. Прибыли санитарные вертолеты. Забрали убитых и остальных бойцов. Солдаты на радостях качали, обнимали летчиков – благодарили за спасение. Передышка. И снова сопровождение транспортов, каждый раз на грани между жизнью и смертью. В июне 1981 года вернулся домой.
Воспитывает трех сыновей от трех жен. Нервы шалят до сих пор. Войны для мужчин не проходят даром.
Каждый бой оставляет глубокий след на сердце.

Чебатков Владимир Николаевич (справа). Афганистан 1980 г.
(«Мотопехота»)

Рота
(«Отчаянный»)

Жуков Александр Федотович (справа)
(«Армейская разведка»)
Отчаянный
Игорь рос сам по себе. Мать, Раевская Тамара Вячеславовна, инженер-технолог, целыми днями на работе. Игорь только после возвращения из Афганистана, когда учился на вечернем отделении политеха, заинтересовался своей родословной. По матери корни уходили к князьям Раевским. Отчим военный, то на учениях, то в командировках. В школе Игоря прозвали «Отчаянный», потом, где бы он ни находился, люди снова и снова называли его «Отчаянный», определяли его по взрывному характеру и взбалмошным поступкам. После уроков, забросив книги, носился во дворе, играл в футбол или убегали гурьбой в парк. Учился кое-как, надеясь на свою память, что схватывал во время урока, то и помнил. После окончания десятого класса призвали в армию. Игорю было интересно. Радовался, что повидает страну. Пока везли по Северному Кавказу, любовался красотой предгорий. Через Каспийское море па пароме до Красноводска. В ноябре на Каспии неспокойно. Ветры с пустыни поднимали огромные волны. Игоря так укачало, что на берег сводили под руки, ноги были ватные и не слушались. Из Красноводска до Ашхабада поездом. Кругом унылая пустыня. Впервые затосковал по дому: широкой и полноводной Кубани, прохладе городских парков.
Определили в учебный полк. Школа сержантов. В Афганистане шли боевые действия. Многие офицеры, как преподаватели, так и строевые, имели боевой опыт и поэтому основательно готовили солдат и сержантов к войне. Шесть месяцев интенсивной подготовки. Изучали все виды оружия боевого применения пехоты. Взаимодействие бойцов отделения, взвода в пустынной и гористой местности. По окончании курсов Игорь получил квалификацию командира расчета БМП (боевая машина пехоты). В расчет входили механик-водитель, оператор-наводчик и шесть человек пехотинцев-десантников. Военной подготовкой Игорь занимался с увлечением, буквально запоминал на лету объяснения инструкторов. Весной, 1981 года, младший сержант Игорь Погорелов прибыл в специальный мусульманский батальон под Ташкентом. Батальон имел боевой опыт войны в Афганистане. Большинство бойцов в батальоне были Призваны из Узбекистана. В нем были: туркмены, таджики, узбеки, киргизы. Почему он назывался мусульманским, Игорю было не совсем понятно. Верующих во взводе было шесть человек. Думал: «Наверное, назвали так с политической точки зрения, чтобы для афганцев – ярых мусульман было понятно, вот и у шурави есть воины – мусульмане, которые пришли их защищать». И только через шесть месяцев серьезной подготовки, приближенной к боевой, в октябре 1981 года, батальон ввели в Афганистан, в район селения Акча, недалеко от города Мазари-Шариф. Перед их приходом бандиты, ночью сняв посты, вырезали пограничный батальон, который был сформирован из пограничников от Каспия до Кушки. Батальону поставили задачу восстановить контроль над местностью. Младший сержант, Игорь Погорелов, назначен командиром расчета БМП. Машина развивала скорость до 70 км/час, при весе 13 тонн, имела противопулевую броню. Месяц обживались на ночном месте. На опасных направлениях – минные заграждения, кругом, в несколько рядов установлены сигнальные ракеты, по периметру в укрытиях БМП. Капитан Ниязов, зампотех батальона, расчет сержанта Погорелова ставил в пример за образцовое содержание боевой техники. Обустраиваясь, одновременно выполняли мелкие операции с местной милицией по блокированию и поимке небольших групп бандитов. В начале декабря разведка сообщила, что в кишлак Джар Кундук вошла крупная группировка душманов, в количестве шестиста человек. Кишлак раскинулся среди гор, в долине, к которому вела одна дорога. На уничтожение бандитов был брошен танковый батальон. Разведка сработала плохо. Душманы в горловине ущелья устроили засаду. Почти все танки были сожжены из РПГ, только шести удалось вырваться из западни. Вертолеты поддержки ничем помочь не могли, слишком близко скалы подходили друг к другу, это мешало вести прицеленный огонь по противнику. К этой операции готовились тщательно. В боевую группу входила рота БМП, в количестве десяти машин, это около сотни бойцов.
Две роты на БТР (бронетранспортер), взвод связи, авторота с боеприпасом и продовольствием, взвод «Шилка» (четырехствольная установка). Чтобы отвлечь внимание противника, группировка перед входом в ущелье остановилась, спешилась. Ночью прилетели десантные вертолеты. Рано утром, вокруг кишлака, в радиусе пяти километров выбросили десант, чтобы бандиты не вышли из кишлака и не ушли безнаказанными. По кишлаку в течение двух часов работала авиация. Десантники, незамеченными, с четырех сторон продвигались к кишлаку. Душманы основные силы бросили к ущелью, ожидая, что оттуда будет наноситься основной удар.
Игорь рассказывает, когда взобрались на сопку, а за ней увидели еще гряду сопок. Боезапас – патроны, гранаты – тащили на себе. Самым дорогим грузом была фляжка с водой. В сапогах от пота хлюпало. По спине стекали капли воды. Приданная милиция (царандойты) из местного населения побросали груз и лезли в гору налегке. Десантники знали, что впереди жаркий бой и каждый патрон будет на вес золота. Подбирали ящики и тащили вверх. Наконец, с последней сопки увидели внизу селение, тянущееся цепочкой по долине, местами сакли лезли в горы в несколько рядов, цепляясь друг за друга. Земля вдоль реки – это жизнь. Эта полоска кормила жителей аула. Сверху четко, как на ладони, просматривалась линия обороны противника. Душманы ждали шурави со стороны ущелья, рассчитывая уничтожить тех, которые прорвутся сквозь их заслоны.
Как снежная лавина скатились десантники в окопы бандитов. Роем летели лимонки. Погорелов еще в учебке ловко научился бросать гранату, с расстояния 25 метров попадал в кольцо диаметром метр. Бой с вражеским прикрытием был короткий. Во взводе Погорелова потерь не было, но в соседнем взводе погибли двое ребят – Миша Калинин из Твери и Рашид Рахматуллин из Ташкента. В учебке были в одном отделении. Услышав бой в селении, душманы поняли, что засада в ущелье бессмысленна, побросав оружие, возвращались в селение. На улице шел бой. Танки и бронетранспортеры вошли в аул и продвигались между домами, подавляя очаги сопротивления. Игорь видел, как из-за глиняной стены ударил гранатомет. С танка слетела гусеница. Ствол пушки развернулся и через несколько секунд в укрытии зияли три метровые дыры, а стена стояла. Даже после налета авиации сакли стояли, не рассыпались. Во дворах находили большое количество оружия, в основном советского производства, которое поставляли душманам третьи страны с американского благословения. Когда вернулись на базу, командир батальона, майор Стодеревский Игорь Юрьевич, высокий, статный, интеллигентный умница, похвалил личный состав, особо выделил сержанта Погорелова за его смелость и смекалку, назвал его отчаянным, но предупредил, чтобы был поосторожнее, «вперед батьки в пекло не лез», напомнил, что его дома ждет мама живым.
Солдаты и сержанты знали, что похвала командира за их безупречные действия – в первую очередь это заслуга комбата, который, имея опыт войны, кропотливо готовился к выполнению каждого задания. Командиры рот, взводов, расчетов знали свои действия до мелочей. Перед боем про¬игрывались всевозможные ситуации. В их батальоне были наименьшие потери, как и в батальоне Устюжанина в соседней дивизии, с которой они взаимодействовали. Начались новогодние дни. Многие ребята демобилизовались в новом году, кто весной, а кто осенью. Батальон стал родным домом. Знали друг друга по фамилиям, а в роте по именам. Взвод спал в одной палатке. Вечерами у огонька делились самыми сокровенными тайнами. В феврале 1982-го батальон был передислоцирован в местечко Тарзап, недалеко от городка Шиберган, западнее Мазари-Шарип. Летом 1982 года батальон выполнял боевые задачи по уничтожению мелких бандитских групп. В октябре пришла информация, что в один из кишлаков войдет бандгруппа в количестве четырехсот человек, хорошо вооруженная и обученная.
Поступил приказ: «Уничтожить бандформирование». К операции готовились основательно. На планерку были приглашены младшие командиры. Решили: «Бронегруппа соседнего батальона входит в селение, выдавливает басмачей. Батальон Погорелова закрывает пути отхода бандитов и уничтожает их». Вечером батальон на БМП двинулся и сторону кишлака. Вдоль дороги проходили две трубы, по одной шла нефть, по другой солярка, которые охранялись спецподразделениями. Охранное подразделение постоянно курсировало на БМП, от поста к посту, вдоль трассы. Выдвижению батальона разведка противника не придала значения, считая, что это БМП из батальона охраны. С наступлением темноты с БМП высадился десант. Машины отошли на пару километров назад под охрану поста. С рассветом десант, через перевал, с двух сторон двинулся к селению. Бронегруппа, которая должна была с восходом солнца ворваться в укрепленный пункт, не смогла преодолеть горную реку с крутыми берегами. Единственный деревянный мост душманы успели разобрать заранее. На восстановление моста требовалось время. Командир батальона принял решение действовать самостоятельно: окружить противника в селении своими силами. Душманы на подступах к поселку обнаружили десантников. Начался бой. У десантников было полное преимущество, они занимали господствующие высоты. Боезапас таял. Комбат передал: «Беречь патроны». Гранаты не долетали до окопов противника. Оставалась надежда на автомат. Впереди взвода Погорелова оказался крупнокалиберный пулемет, который прижал бойцов к земле. Пулемет прикрывала группа автоматчиков. Заместитель командира взвода старший сержант Сяткин подполз к Погорелову:








