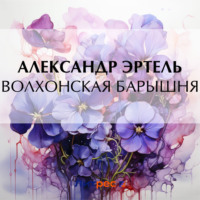Волхонская барышня
И за этими сладкими ощущениями, за этими речами и наблюдениями своими Илья Петрович как-то незаметно позабыл о существовании своей «памятной книжки». Он уже не спорил с Захаром Иванычем о значении капитализма в России (чему тот был очень рад); он уже записывал песни и бытовые обрядности, которые от времени до времени приносил ему Мокей, с видом какого-то неотступного долга; он не начинал давно задуманного очерка «из быта батраков», – он при первой возможности уходил в дом, в сад и говорил, гулял с Варей, катался с ней по полям. Незаметно для себя, ею одной, ее пленительным образом, всюду его преследовавшим, он переполнил свое существование.
Что происходило с ней – трудно сказать. Она и сама не знала, какие ощущения заполонили ее душу и придали ее нервам изумительную чуткость. В ней что-то совершалось и зрело с медлительной непрерывностью. Но что? В этом она не могла дать себе отчета. Все окружающее приняло в ее глазах какое-то особое, неизвестное ей дотоле выражение. Слушала ли она соловьиную песню, мелким серебром стоявшую над садом, смотрела ли на вечернее небо, в котором пламенел закат и неясно мерцали звезды, следила ли за полетом жаворонка, в сверкающем трепете взлетавшего к солнцу, гуляла ли по тенистым аллеям сада в сумраке и тишине душистой ночи, – везде преследовала ее какая-то задумчивая и приятная печаль. И особенно она полюбила даль, замыкавшую необозримые волховские поля. Любила она ее в переливчатом блеске солнечного утра, и в туманных очертаниях знойного полдня, и в зареве заката, жарком и пышном, и в ту пору пасмурной погоды, когда эта даль синела, – синела без конца и своим загадочным простором рвала и терзала душу невыносимой тоскою…
И когда она была одна и ждала обычного появления Тутолмина – неспокойное волнение охватывало ее. Дыхание стеснялось. Сердце билось в надоедливой тревоге… Но появлялся он, и волнение проходило. Без всякого трепета жала она его руки и смотрела ему в лицо и начинала беседу. И все существо ее погружалось в тихое и ясное блаженство.
Книг она почти не читала. Все, что было в них, обыкновенно рассказывал ей Тутолмин. И в его изложении книги эти ложились на ее душу резкими и незабываемыми чертами. Иногда он читал ей. Когда же сама она принималась читать, с нею совершалось что-то странное. Не то чтобы она ощущала скуку или плохо понимала, – нет, но мысли и факты, представляемые книгой, воспринимались ею как-то сухо и недоверчиво. Именно – сухо. Им недоставало какой-то плоти, каких-то живых и привлекательных красок, которые приносило с собою изложение Тутолмина или его чтение, – и они толпились перед ней стройными, но безжизненными колоннами, холодные и черствые, как мертвецы. И книга выскользала из рук, и взгляд неотступно уходил в глубь сада, где в тени пахучих лип щелкал голосистый соловей и меланхолическая иволга тянула свои переливы…
Иногда ей казалось, что она любит, и тайное опасение закипало в ней. И она представляла его себе близким человеком, мужем… Но какая-то враждебная струя быстро охлаждала ее мечтания, и где-то далеко, в самой глубине души, смутно шевелилось неприязненное чувство. И вслед за этим какая-то досада вставала в ней – она злилась на себя, на свою мечтательность, и – мгновенно воображала Илью Петровича уже не мужем и не близким человеком, а чем-то важным, светозарным, недосягаемым.
Раз выдался хороший денек, недавно прошла гроза. Гром еще рокотал в неясных и внушительных раскатах. На дальнем горизонте чернела туча… Но небо очистилось и с веселой ласковостью простирало свежую свою синеву. Солнце сияло. В теплом воздухе, ясном и прозрачном, как хрусталь, стоял крепкий запах березы и тонкое благоухание цветущих трав расплывалось непрерывными волнами. Листья деревьев, обмытые дождем, блистали кропотливым блистанием и радостно лепетали. Птичьи голоса звенели особенно задорно. Яркая зелень полей и муравы, вспрыснутая влагой, била в глаза мягкостью и сочностью своих тонов. Озеро недвижимо сверкало. Мокрый камыш как будто замер в чутком и осторожном безмолвии.
Варя с Тутолминым прошли сад и вышли на поляну. Кругом расстилалось поле яровой пшеницы. Легкий ветерок ходил вдоль поля голубыми волнами и пригибал к земле молодые стебли. Дальше извивалась река в недвижимом блеске. За рекою вставали холмы и виднелась бледно-зеленая рожь. Проселочная дорога тянулась по ней черною лентою и пропадала в прихотливых зигзагах. Вверх по течению реки открывалась даль. Теперь в ней легкими волнами курились испарения, и солнечные лучи заманчиво трепетали в них… Очертания церквей приветливо сверкали в отдалении. Смутно чернели поселки… Густая зелень кустов резко обозначалась среди полей. В голубой высоте звенел жаворонок.
Варя села на копну сена, и Илья Петрович поместился около нее. Она облокотилась на руку, с которой спустился рукав вышитой малороссийской рубашки, и смотрела вокруг и слушала. Тутолмин читал ей новый очерк знаменитого «народника-беллетриста». Он читал с увлечением, с жаром; он весь отдавался рассказу, в котором ему чудился возврат автора к верованиям и идеалам «почвенников». Он этим рассказом крупного и сильного противника особенно хотел поразить Варю, и особенно оттенить те принципы, которые развивал ей доселе.
А она застыла в жадном и страстном внимании. Но не рассказ знаменитого «народника-беллетриста» слушала она, не картины его суровой и решительной кисти – подобной кисти Репина, возникали перед ней, – она слушала звуки голоса Тутолмина, слушала радостное щебетанье жаворонка, мелькавшего в небе, слушала отдаленный птичий гам, висевший над садом, и унылое кукованье кукушки, притаившейся в ближней роще… И картины какого-то огромного счастья надвигались на нее пленительною вереницей, и волны изумительного восторга затопляли ее душу.
И все ее существо переполнилось знойным желанием. Она внезапно обвила руками шею Тутолмина, и вся в каком-то изнеможении, трепетном и стыдливом, вся пронизанная какою-то горячей и мелкой дрожью, приникла к его груди. «Люблю тебя…» – прошептала она едва слышно.
Он опустил книгу. «Любишь?..» – в растерянном недоумении произнес он. И вдруг почувствовал, что радостное стеснение перехватило ему дыхание. И до такой степени стали ему ясны теперь и беспокойные тревоги, и сладкие ощущения, волновавшие его душу во все время сближения с Варей, и так невыразимо дорога стала ему эта девушка… Он прикоснулся губами к ее затылку, от которого пахнуло на него тонкими духами, и тихо погладил ее голову. «Дорогая моя, невеста моя», – сказал он. Она подняла лицо и блестящими, радостными глазами посмотрела на него; щеки ее пылали, полуоткрытые губы как бы пересохли от жажды… Тутолмин в умилении смотрел на нее. Прошло несколько мгновений.
– Мы теперь будем на «ты», да? – слабо прошептала Варя.
– О, непременно! Раз если любишь – разговор короткий, родимая моя, – ответил Илья Петрович.
Варя хотела было спросить: любит ли он ее и как, но не спросила, а тихо отняла руки и положила голову на его плечо. А он, счастливый и безмятежный, начал развивать перед ней свои планы. Она непременно должна ехать в Петербург и слушать лекции на высших курсах. Курсы дадут ей факты – научную основу для ее стремлений, полезные знакомства и связи. Он поездит по деревням, соберет материалы для книги, которую думает написать – «О проявлениях артельного духа в пореформенной деревне, в связи с стойкостью русских общинных идеалов вообще», – а к зиме возвратится в Петербург, и они заживут там на славу. Впереди же… о, впереди масса работы, масса честного и светлого труда – рука об руку с верными «однокашниками», с товарищами, испытанными в лихую и жестокую годину.
Варя слушала его, кивала головкой и улыбалась кроткою и блаженной улыбкой.
Назад они возвращались рука с рукою. Вокруг них болтливо лепетали березы, и нежные липы задумчиво шептались, и гремели неугомонные соловьи; над ними висело побледневшее небо и тихо двигались румяные облака; вдали сквозило голубое озеро и белелась у берега лодка, красивая как игрушка… «Милый мой, поедем на лодке!» – сказала Варя и бегом пустилась к берегу. Илья Петрович последовал за ней. Они отчалили; иловатое дно зашуршало под лодкой. Весла блестели и разносили звенящие брызги… Сад удалялся со своим шумом и с пахучею тенью бесконечных аллей… Купы зеленого камыша медлительно тянулись им навстречу… В прозрачной воде прихотливо извивались водоросли.
Лодка долго плавала по озеру. Она заходила и в молчаливые заводи – кругом которых сторожко и важно стоял частый камыш, и где особенно ясно отдавались удары весел; о корму и мерный всплеск воды. Она приставала и к островам, на которых непроходимой чащею рос гибкий тальник и гнездились дикие утки. Она приближалась и к тому берегу, над которым в глубокой дремоте стояла рожь и возвышались холмы круглые как купол. Иногда утки, встревоженные ее приближением, тяжко взлетали из камыша и резко крякали. Тогда серебристый смех Вари вторил этой шумной тревоге и долго стоял в воздухе, и весло гремело о корму гулко и часто. А солнце зажигало запад, и небо розовым сводом опрокидывалось над озером. В усадьбе ослепительно блестели окна. Шпиц колокольни пламенел как свеча. Отражение водяной мельницы стояло в воде ясно и живо. Смутный шум колес меланхолически разносился в чутком воздухе. Откуда-то из-за сада тоскливо тянулась песня.
Заблаговестили к вечерне. Протяжный колокольный гул плавно огласил окрестность и звенящим отзвуком разнесся по воде. И Варя встала во весь рост и, заслонившись ладонью от заходящего солнца, огляделась. И вдруг – и сад с вершинами деревьев, позлащенных закатом, и тихое озеро, и холмистое поле, и усадьба, и крылья английской мельницы, недвижимо распростертые в бледном северном небе, и село, приютившееся под ракитами, и сквозные облака, пронизанные горячим золотом, – все это предстало Варе чем-то важным и внушительным и вместе бесконечно дорогим и бесконечно близким. И она смотрела вокруг широкими глазами, и запоминала, и любовалась, вся охваченная теплотою какого-то серьезного и умилительного настроения… А Тутолмин покинул весла и, не сводя восторженного взгляда с лица девушки, залитого розовым сиянием, крепко и значительно сжимал ее руки. Вода неутомимо журчала под кормою и робко плескалась и убегала вьющимися струйками… Ласточки носились над водою.
Алексей Борисович встретил Варю на балконе. Он небрежно разрезывал новую книжку «Nouvelle Revue» и от времени до времени прихлебывал чай, стоявший перед ним на серебряном подносике. Около него лежали вскрытые письма и целый ворох газет и журналов.
– Что, m-lle, с лапотником на лоне природы услаждались? – с обычной своей усмешкой сказал он, не без удовольствия посмотрев на девушку. – Что, он не сочинил еще нового «отрывка» о мировом значении артельного мордобоя?
– Ах, как это тебе не надоест, папа, – возразила девушка, – лучше расскажи, что нового, – ведь это почту привезли?
– Что нового! Новости наши вечные. В русских журналах до того все закоулки пропахли мужиком…
– Опять… – с упреком сказала Варя.
Алексей Борисович засмеялся.
– Что делать, милая, никак не могу приучиться к мысли, что лапоть парадирует в роли «властителя дум»… Прости!.. Ну что еще, – в газетах обычный трепет и вилянье вперемешку с намеками на то, чего не ведает никто. Сферы делают мужичку глазки, что, однако, не особенно должно беспокоить нашего брата плантатора… Потом обычные пейзажи – воровство, кражи, казнокрадства, похищения, растраты… Ах, моя прелесть, что же и делать со скуки благородным россиянам – не кобелей же в самом деле топить… Pardon, – поправился он в скобках, но тотчас же с лукавством добавил: – Ты, впрочем, вероятно, привыкла к народным выражениям…
– Опять… – повторила Варя.
– Прости, прости… забываю, что ты еще не обнародилась до похвальбы грязными манжетками…
– Папа!
– Ну что еще… Много получил писем. Из Петербурга все больше точки и остервенелые доносы на скуку. Впрочем, Фонтанка воняет по-прежнему. В заграничных – жалуются на курсы и на кухню. Представь себе, подлецы немцы – до того онаглели, даже на желудки наши покушаются! Вот пишет Савельев из Карлсбада: «…Когда приходит время обеда – меня начинает тошнить: так все скверно готовят и баснословно дерут; например, за бифстекс (1/3 нашего) 1 fl. 60 kr., что составит по курсу 1 р. 36 к., и тот вареный на бульоне, чтобы не жарить его в масле, из экономии; – к нему картофель жаренный в сале, по 5 крейцеров за штуку; яйцо – от 6 до 8 крейцеров за штуку; булочка в два глотка – два крейцера: по крейцеру за глоток»… и так далее. Каково!.. Скоро, кажется, до того дойдем – Европа нас в лакейскую не будет допускать!.. Ну что еще… Ну, разумеется, по курортам различные Балалайкины шныряют, или как там у Щедрина?.. Ах, да!.. Вот… – и он с живостью взял листочек с графской коронкой. – Ты помнишь своего кузена, Мишу Облепищева? Графа Облепищева?
– А, – быстро отозвалась Варя, – ну, конечно, помню: он такой милый.
– Так вот он пишет. Просит позволить приехать ему погостить в Волхонку с товарищем, с каким-то Лукавиным. Не помню, – в недоумении промолвил Алексей Борисович, – какой это Лукавин. Пишет: «Представляет из себя возникающую лозу, упитанную миллионами, но за всем тем – мил и благороден».
– Лукавин… Знакомая фамилия…
– Ах, ты думаешь, что это… известный? Может быть. Но в таком случае это его сын. Посмотрим сей отпрыск лаптя, оправленного в золото…
– Но… ты думаешь его пригласить?
– Отчего же? Дом велик. А если ты затрудняешься ролью хозяйки и вообще забыла некоторые наши «барские» привычки и «приобыкла» к иным… так я тебе «Хороший тон» от господина Гоппе выпишу.
Варя невольно рассмеялась.
– Приглашай, приглашай, – сказала она.
– А ты совершенно забросила музыку, – уже серьезно заметил Волхонский, – хотя бы «бычка» изучала под руководством господина… как бишь его?.. Ведь ты помнишь Мишеля – он без музыки жить не может.
– Надо рояль настроить, папа.
Алексей Борисович сейчас же распорядился послать в город за настройщиком.
Варя прошла к себе и, не снимая шляпы, села у окна. Сладкий запах сирени доходил до нее. На сад ложились тени. В кустах бузины щебетала малиновка.
Варя думала о своем кузене. «Каков-то он теперь?» – думала она и с удовольствием вспомнила время своего сближения с ним. Ей было тогда тринадцать лет. А он был такой тоненький и хрупкий и грациозный в своем пажеском мундире. Одно время он был влюблен в нее. Но это прошло быстро и незаметно. Истинной его любовью пользовалась только одна музыка. За роялью он забывал все на свете… Но, однако же, никогда она не забудет одной прогулки. Ей и теперь мерещится иногда зимняя лунная ночь с крепким морозом, необыкновенно высокое синее небо, простертое над бесконечными снегами, мелкое сверканье инея на сугробах, протяжный визг полозьев, заунывный звон колокольчика, медленно замирающий в сумрачной дали… Вместе с Мишей и бабушкой (той самой, которая и до сих пор отстаивает аракчеевские порядки, а Алексея Борисовича иначе не называет как фармазоном) они устроили этот пикник в одну из рождественских ночей. Варя и теперь помнит, как близко сидел около нее румяный Мишель, и как горячо соприкасались их ноги, и как острая струя морозного воздуха веяла ей в лицо, а на душе было свежо и грустно. Позади голубым блеском светились колокольни губернского города и смутно замирал городской шум…
Вдруг она очнулась и мгновенно вспомнила сцену на поляне. Она живо вообразила себе и небо, и даль, и песню жаворонка, и лепет берез, пронизанных заходящим солнцем, и румяные облака… Но сердце ее билось ровно, и образ Тутолмина в каком-то тумане возникал перед нею. И странное чувство какой-то неудовлетворенности робко шевельнулось в ней.
IX
– Ну, как твои «одры»? – спросил однажды Захара Иваныча Тутолмин.
– Какие одры?
– Ну эти, как их там… плуга-то твои?
Захар Иваныч усмехнулся.
– Да идут себе, – сказал он не без гордости.
– Идут? – в удивлении протянул Илья Петрович. – И Пантешка пашет?
– И Пантешка пашет.
– И пласт не раскидывается?
– И пласт не раскидывается.
– Чудеса! Что же ты со всем этим натворил, буржуй окаянный?
– Ничего не натворил. А лемеха установил; рабочим назначил премию; вместо щепок топлю антрацитом…
– И идет? – недоверчиво произнес Тутолмин.
– И идет.
Илья Петрович с неудовольствием прикусил губы.
– Ну, этим ты погоди важничать, – немного спустя промолвил он, – плуг-то, может быть, у тебя и пашет, а уж в общем ты оборвешься, буржуй! Как ни вертись, а мужик тебя слопает.
В это время Захару Иванычу подали лошадь.
– Да чего лучше, – сказал он, вставая и снисходительно посмеиваясь, – поедем со мной в поле, поглядишь, как хлеба у меня растут на возделанных нивах; как твой «каменный» мужик мягко с орудиями «капиталистического производства» обращается… Поедем!
Илья Петрович согласился.
И куда они ни приезжали, отовсюду веяло порядком и удачей. Озимая пшеница, рассеянная механическим способом, по земле, удобренной компостом и семенами, отобранными на машине, буйно и внушительно волновалась темными волнами. Из густо-зеленых ее перьев выметывался белый и жирный колос. Рожь превосходила рост человеческий. Она была в полном цвету и вместе с запахом, подобным запаху спирта, разливала в воздухе волнообразный палевый туман. Затем они осмотрели яровые. Синяя пшеница была чиста и высока. Просо отливало сочной и яркой зеленью. Турнепс и картофель заполоняли нивы шероховатой и грубой листвою.
Захар Иваныч радостными глазами осматривал поля.
– Тут прежде сеяли рожь, – говорил он, указывая на озимую пшеницу, – и продавали ее три с полтиной четверть. А я в прошлом году с этого поля пшеницу продал по шестнадцати рублей!.. На сем месте испокон веку овсы произрастали, – продолжал он, приближаясь к яровой пшенице, – пшеницу же сеяли и бросили: не рожалась. У меня она второй год родится; а цена ей – пятнадцать рублей… Турнепсом быков кормлю, – рассказывал он далее. – Картофель на винокуренный завод поставляю: важно берут с тех пор, как немцы рожь стали вывозить. Просо на пшено переделываю – локомобили зимою-то свободны, я их и приспособляю к рушке. Толку на водяной…
– Эка у тебя нутро-то играет! – насмешливо заметил Тутолмин, поглядев на Захара Иваныча.
– Друг! С чего ему не играть-то; результаты вижу!
– Так. А ты, буржуй, здорово отупел. Ну какие же это к лешему результаты?
– А что же?
– Иллюзии.
– Какие такие иллюзии?
– А такие. Талан свой зарываешь в землю – злаки-то и прут оттуда как оглашенные. А все-таки талан в земле, – подчеркнул он.
– Как в земле? – в некоторой обиде вымолвил Захар Иваныч.
– Как? Очень просто. Кому какое дело, что у тебя быки турнепс лопают? Разве Дациаро лишнюю копейку зашибет. А Влас Карявый с того не просветлеет…
– Ой ли! А ежели просветлеет… А если волхонские мужики у меня уж два рансомовских плуга купили?
– В долг?
– Да уж там как ни купили… – уклончиво возразил Захар Иваныч.
– Нет, это не все равно, – горячо промолвил Тутолмин, – на филантропии никакой прогресс еще не двигался.
– Да не в филантропии дело, Илья, – мягко сказал Захар Иваныч, – дело в том, что потребности просыпаются. Привычки к новым приспособлениям…
– Значит, «обобществлять» труд изволите?..
– Значит.
– Любопытно, – пробормотал Илья Петрович.
Затем через степь они проехали на пашню. Трава была уже скошена, и бесчисленные стога важно возвышались своими конусообразными вершинами. Но отава не расходилась обычными подрядьями и не лезла в глаза неизбежными клочками плохо скошенной травы, а отливала гладкой скатертью, красиво испещренной мелкой и четкой рябью. Захар Иваныч даже лошадь остановил. – Смотри, Илья, до чего прелестно работают косилки! – воскликнул он, блаженно улыбаясь.
А впереди смачно чернелась пашня. Они въехали в нее. Колеса мягко утонули в рыхлых пластах, и дрожки закачались как в люльке. «Каково!» – вымолвил Захар Иваныч. Навстречу им тянулись плуга. Длинные вереницы быков важно переступали вдоль загона, медлительно пережевывая на ходу свою жвачку. Погонщики хлопали кнутами и кричали: «Цабе, цабе…», «Цоб, дьявол тебя обдери!»
Когда Захар Иваныч подъедал к заднему плугу, тот остановился. «Помогай бог!» – произнес Захар Иваныч. Плугарь поклонился. «Эх, плуга, пес ее побери!» – сказал он, и все лицо его, темное от грязи и пота, изъявило удовольствие.
– Хороша? – улыбаясь, спросил Захар Иваныч.
– Больно хороша, окаянная, – живая!.. Только я что думаю, Захар Иваныч (в это время подошли и другие плугари), что мы, мужики, думаем, – и он закопошился над плугом, – взять бы теперь, к примеру, этот отрез, и ежели б на него связочку поаккуратней… А то видишь ручка-то у него круглая, чуть что попадается ему навстречу, он и вертится в связке-то… Мы и то клинушки в нее продеваем… (Действительно, около всех «отрезов» виднелись клинушки.)
– Да ведь тут винт есть!
– Есть. Есть-то он есть, а державы в нем нетути. Ты гляди – как ее, круглую вещию, винту содержать?.. Никак ее содержать невозможно. Немец-то хитер, а тут, прямо надо сказать, опростоволосился.
– Може, у них земли мягкие, – снисходительно заметили другие, – пусти-ка ты ее в огород, она и у тебя без клиньев будет ходить.
И Захар Иваныч, с широкой улыбкой на сияющем лице, согласился, что точно, для наших земель отрез нужно переладить. Восхищался и Тутолмин этой сообразительностью мужиков:
– Ведь ежели бы им в общину эти плуга, – они бы закопались в жите! – воскликнул он и тут же спросил Захара Иваныча: – А ты те-то два плуга – в мир продал?
– Нет, хозяйственным мужичкам.
Илья Петрович гневно посмотрел на него.
– Скотина ты, – решительно сказал он.
– Да не берут в мир-то; что ты с ними поделаешь… – оправдывался Захар Иваныч.
Но Тутолмин не верил.
– Оттого и не берут, что совесть у тебя, у буржуя, не чиста, – ворчал он, – видят, не ихний ты слуга, а барский, и не берут. К подвохам-то к нашим пора и привыкнуть: века обучались!
Паровой плуг тоже работал великолепно. Пантешка несколько утратил развязность своих манер и был уже в синей, а не в красной рубахе. Но тут Захар Иваныч все-таки нашел беспорядок: пары были подняты до 115 фунтов, между тем как уже 90 отмечалось на манометре красной черточкой. Локомобили глухо ворчали и дрожали как в лихорадке.
– Что вы делаете! – в отчаянии закричал Захар Иваныч, – ведь третий раз вас ловлю… Ей-богу, штрафовать буду… Ведь ваших и костей-то здесь не разыщешь!
Машинист пасмурно хмурил брови и ругался на кочегаров. Кочегары сваливали вину на пылкий уголь…
– Да чего это они? – полюбопытствовал Илья Петрович, когда плуг остался далеко позади.
– Вся беда в премии и в лени, – сказал огорченный Захар Иваныч, – с большим паром плуг успешней работает, и, следовательно, для них выгодней; а для лени опять-таки способнее, меньше забот с топливом.
– Да разве они не знают, что эта игра может скверно кончиться?
– Лучше нас с тобой. Да что ты поделаешь с этими отвратительными российскими свойствами!.. Тот же кочегар Труфлий – это шершавенький-то – ужасный трусишка, и как-то на днях его ни за что не уговорили идти ночью рыбу ловить. Там, видишь ли, «водяной» его слопает!.. Здесь же ежечасно взрыв может последовать, а он сидит около топки да в рубахе блох ищет!.. Изумительнейшие чудаки!
– А где Мокей? – вдруг вспомнил Тутолмин. – Я его недели две не вижу.
– Эге! Мокей давно уж восвоясях.
– Опять ушел?
– И деньги вперед забрал.
– Тоже чирий вскочил?
– Нет; говорит, жена умирает. Может, и правда. В селе действительно ходит горячка.
– Что же, есть помощь? Есть доктор? – встрепенулся Тутолмин, и вдруг какое-то жгучее ощущение стыда хлынуло на него неукротимыми волнами.
– За доктором два раза уже посылал. Фельдшер приезжал, ходил по избам…
– Да что же это… да как же ты… – заволновался Илья Петрович.
– Да я-то что поделаю? Я и узнал-то только четвертый день.
– Нет, хорош я!.. – с горечью произнес Тутолмин. – Люди издыхают как собаки – без помощи, без света, в грязи, в гное, а я… – и он не мог договорить от душившего его волнения.
– Да беда вовсе не такая страшная… Ты напрасно волнуешься, Илья, – говорил Захар Иваныч, с участием заглядывая в лицо Тутолмина, – еще никто и не думал умирать. И каждое лето в это время народ болеет…
– Каждое лето! – с негодованием воскликнул Тутолмин. – Если каждое лето болеет – объясним законом, придумаем формулу и успокоимся… И успокоимся?.. Каждое лето!.. Да что же это такое, Захар? Да ужели же так легко обратиться у нас в подлеца?.. Да ужели же… Ах, проклятые нервы! – спохватился он, весь охваченный дрожью.
Дома его ожидал изящный конвертик с монограммой, увенчанной темно-синей коронкой. Он в досаде разорвал его и прочитал записку. «Дорогой мой! – писала Варя. – Скучно мне без тебя; не мил мне без тебя этот сухой господин Постников!.. Приходи, скучно, жду. Твоя В.».