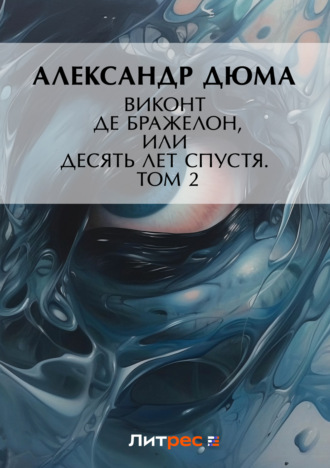
Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 2
При этих фразах, которые общество не могло слушать без смеха, в глазах короля сверкнула молния. А Сент-Эньян опустил голову и взрывом хохота скрыл свою глубокую досаду.
– Честное слово, очаровательная шутка, – произнес король, выпрямляясь во весь рост, – и вы, принцесса, рассказали ее не менее очаровательно; но правильно ли вы поняли свою наяду?
– Ведь уверяет же граф, что он хорошо понял язык дриад, – живо отпарировала принцесса.
– Без сомнения, – сказал король. – Но вы знаете, у графа есть слабость: он метит в Академию и с этой целью изучил много вещей, которые, к счастью, неизвестны вам, и очень может быть, что язык речной нимфы принадлежит к числу не освоенных вами предметов.
– Вы понимаете, государь, – отвечала принцесса, – что в подобных вещах не доверяешь одной только себе; слух женщины нельзя назвать непогрешимым, сказал святой Августин; вот почему я пожелала подкрепить себя другими свидетельствами, и так как моя наяда, будучи богиней, – полиглот… ведь так говорится, господин де Сент-Эньян?
– Да, ваше высочество, – кивнул совсем растерявшийся де Сент-Эньян.
– Так вот, поскольку моя наяда, – продолжала принцесса, – полиглот и сначала заговорила со мной по-английски, то я побоялась, как вы говорите, что плохо пойму ее, и велела позвать мадемуазель де Монтале, де Тонне-Шарант и де Лавальер, попросив наяду повторить при них по-французски то, что она рассказала мне по-английски.
– И она согласилась? – спросил король.
– О, на свете нет существа более любезного!.. Да, государь, она все повторила, слово в слово. Значит, не остается никаких сомнений. Не так ли, сударыни, – обратилась принцесса к левому флангу своей могучей армии, – ведь верно, наяда говорила именно то, что я рассказываю, и я нисколько не исказила истины Филис… простите, я ошиблась, мадемуазель Ора де Монтале, это правда?
– Совершенная правда, принцесса! – отчетливо проговорила мадемуазель де Монтале.
– Это правда, мадемуазель де Тонне-Шарант?
– Истинная правда! – отвечала Атенаис не менее твердо, но не так внятно.
– А вы что скажете, Лавальер? – спросила принцесса.
Бедная девушка чувствовала устремленный на нее жгучий взгляд короля; она не осмеливалась отрицать, не осмеливалась лгать и в знак повиновения опустила голову. Однако эта голова больше не поднялась. Луизу леденил холод более мучительный, чем холод смерти.
Это тройное свидетельство подавило короля. А Сент-Эньян так даже не пытался скрыть своего отчаяния и, не сознавая, что он говорит, лепетал:
– Превосходная шутка! Чудесно разыгранная, госпожи пастушки!
– Справедливое наказание за любопытство, – хрипло сказал король. – Скажите, кто, после наказания, постигшего Тирсиса и Аминтаса, решится проникнуть в тайники сердца пастушек? Уж конечно, не я… А вы, господа?
– И не мы, – хором повторила группа придворных.
Принцесса торжествовала при виде этой досады короля; она наслаждалась, думая, что ее рассказ послужит развязкой всей этой истории.
А принц, которого рассмешили оба рассказа, хотя он в них ничего не понял, повернулся к де Гишу и спросил:
– Что ж ты, граф, молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Может быть, ты жалеешь господ Тирсиса и Аминтаса?
– Жалею от всей души, – отвечал де Гиш, – поистине, любовь такая сладкая химера, что, теряя ее, теряешь больше, чем жизнь. Поэтому, если два пастуха считали себя любимыми и если они были счастливы и вдруг, вместо счастья, встретили не только пустоту, подобную смерти, но еще и насмешку над чувством, которая в тысячу раз хуже смерти… если так, то я скажу, что Тирсис и Аминтас – несчастнейшие из всех смертных.
– И вы правы, господин де Гиш, – согласился король, – потому что смерть – жестокая кара за маленькое любопытство.
– Значит, рассказ моей наяды не понравился королю? – наивно спросила принцесса.
– Будьте покойны, принцесса, – сказал Людовик, взяв ее за руку, – ваша наяда тем более понравилась мне, что она была правдива, и ее рассказ, должен признаться, подтвержден неопровержимыми доказательствами.
И с этими словами он бросил на Лавальер взгляд, значения которого никто не мог бы точно определить, начиная с Сократа и кончая Монтенем.
Этот взгляд и эти слова окончательно уничтожили несчастную девушку, которая, упав на плечо Монтале, казалось, лишилась сознания.
Король встал, не обратив внимания на это маленькое происшествие, которого, впрочем, никто и не заметил; против своего обыкновения (обычно король сидел дольше у принцессы), он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты.
Де Сент-Эньян последовал за ним. Насколько он был весел, входя к принцессе, настолько он теперь был погружен в отчаяние.
Мадемуазель де Тонне-Шарант, не такая чувствительная, как Лавальер, не испугалась и в обморок не падала.
XXXIX. Королевская психология
Король быстро вошел в свои апартаменты.
Может быть, Людовик XIV шагал так быстро, чтобы не пошатнуться. Он оставлял за собой как бы след таинственной печали.
Все заметили веселость короля при появлении его у принцессы, и все этому обрадовались, но никто, вероятно, не понял ее истинного смысла; напротив, причина этого взволнованного, бурного ухода была понятна каждому, или по крайней мере все считали, что понять ее нетрудно.
Легкомыслие принцессы, ее шутки, несколько резковатые для обидчивого характера, особенно если таким характером обладает король; слишком фамильярное обращение с королем, как с обыкновенным смертным, – вот какие причины, по мнению гостей, вызвали поспешный и неожиданный уход Людовика XIV.
Принцесса была более проницательна, но и она сначала точно так же объяснила поведение короля. С нее было довольно уколоть немного самолюбие того, кто, слишком быстро позабыв взятые на себя обязательства, по-видимому, без всякой причины пренебрегал плодами самой благородной и самой славной своей победы.
При сложившемся положении вещей принцесса считала нужным показать королю разницу между любовью в высоких сферах и маленькой страстишкой, годной разве для провинциального дворянчика.
Отдаваясь высокой любви, чувствуя ее царственную силу и всемогущество, подчиняясь в известной степени ее этикету и притязаниям, король не только не унижал себя, но находил в ней покой, уверенность, таинственность и общее уважение.
Опускаясь же до любовной интриги с простой фрейлиной, он встретит, напротив, даже у своих самых последних подданных осуждение и насмешку. Он утратит свою непогрешимость и недосягаемость. Снизойдя в область серой обыденщины, он неизбежно подвергнется ее ничтожным треволнениям.
Словом, сделать из короля-бога простого смертного, коснувшись его сердца или даже лица, как лица самого обычного из его слуг, значило нанести страшный удар гордости этой благородной крови: задеть самолюбие Людовика было легче, чем пробудить в нем любовь. Принцесса умно рассчитала свою месть и, как мы видели, добилась своего.
Пусть читатель не думает, однако, что в принцессе жили бурные страсти средневековых героинь или что она видела вещи в мрачном свете; напротив, принцесса – молодая, грациозная, остроумная, кокетливая, влюбчивая, скорее благодаря воображению и честолюбию, чем по влечению сердца, – принцесса, напротив, открыла эпоху легких и мимолетных наслаждений, продолжавшуюся сто двадцать лет, с середины XVII века до последней четверти XVIII.
Итак, принцесса видела или воображала, будто видит вещи в их истинном свете; она знала, что король, ее августейший деверь, первый смеялся над скромной Лавальер и считал, что не в его привычках полюбить особу, вызвавшую его насмешку, хотя бы только на одно мгновение.
Кроме того, разве не стояло на страже самолюбие, этот демон, играющий такую большую роль в драматической комедии, называемой жизнью женщины? Разве самолюбие не твердило ей громко, шепотом, вполголоса, на всевозможные лады, что ее, принцессу, молодую, красивую, богатую, невозможно даже сравнить с жалкой Лавальер, правда, тоже молодой, но гораздо менее красивой и, главное, бедной? В этом нет ничего удивительного; ведь известно, что самые замечательные характеры испытывают горделивую радость, сравнивая себя со своими ближними.
Может быть, читатель спросит: чего хотела добиться принцесса этой так тонко обдуманной атакой? Зачем она израсходовала столько сил, если не было речи о том, чтобы вытеснить короля из совсем наивного сердца, в котором он рассчитывал занять место? Зачем принцессе нужно было придавать такое значение Лавальер, если она ее не боялась?
Нет, принцесса не боялась Лавальер, с точки зрения историка, который, зная все, видит будущее, или, вернее, прошлое; принцесса не была пророком или сивиллой; она не больше, чем другой, могла читать в той страшной и роковой книге будущего, которая скрывает самые важные события на самых затаенных страницах.
Нет, принцесса просто хотела покарать короля за его чисто женскую скрытность. Она хотела доказать ему, что если он прибегает к такого рода оружию для нападения, то она, женщина умная и родовитая, сумеет отыскать в арсенале своего воображения оружие для обороны, годное для отражения удара, нанесенного даже королевской рукой.
Кроме того, она хотела внушить ему, что в войнах подобного рода нет королей или что, во всяком случае, короли, борющиеся за себя, как обыкновенные смертные, рискуют потерять свою корону при первом же ударе; что, наконец, если король надеялся одним своим видом вызвать обожание всех придворных дам, то это притязание было дерзким и оскорбительным по отношению к женщинам, стоявшим выше остальных, и урок, полученный этим гордецом, слишком высоко задравшим голову, будет ему полезен.
Вот что, без сомнения, думала принцесса о короле.
Само событие оставалось в стороне.
Руководясь этими соображениями, она сделала соответствующее внушение фрейлинам и во всех подробностях подготовила только что разыгранную комедию.
Король был ошеломлен. С тех пор как он вышел из-под опеки Мазарини, Людовик в первый раз видел, что с ним обращаются, как с обыкновенным смертным.
Подобная фамильярность со стороны подданных пробудила в нем желание дать отпор. Силы вырастают в борьбе.
Но бороться с женщинами, подвергнуться нападениям, подвергнуться насмешкам со стороны каких-то провинциалок, нарочно приехавших для этого из Блуа, было верхом бесчестия для молодого короля, исполненного тщеславия, которое внушено сознанием своих личных достоинств и высоким представлением о королевской власти.
Ничего нельзя было пустить в ход: ни упреков, ни изгнания, ни даже выражения своего неудовольствия.
Выражая недовольство, он показал бы, что поражен, как Гамлет, острым оружием насмешки.
Сердиться на женщин – какое унижение, особенно когда эти женщины могут отомстить смехом!
О, если бы в эту интригу вмешался, кроме женщин, какой-нибудь придворный, с каким удовольствием Людовик XIV засадил бы его в Бастилию!
Но и в этом случае королевский гнев охлаждало следующее рассуждение.
Иметь армию, тюрьмы, почти божественную власть и пользоваться этим всемогуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и самого обыкновенного человека.
Итак, оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушное и приветливое выражение.
Нужно было как ни в чем не бывало по-дружески обращаться с принцессой. По-дружески!.. А почему бы и нет?
Принцесса либо была виновницей неприятного события, либо оставалась пассивной зрительницей его.
Если она подстроила его, это было с ее стороны большой дерзостью, но разве ее роль не казалась вполне естественною?
Кто проник к ней в самые сладкие мгновения медового месяца, чтобы нашептывать ей слова любви? Кто осмеливался рассчитывать на адюльтер, даже больше: на кровосмешение? Кто, прикрываясь королевской мантией, сказал этой молодой женщине: «Не бойтесь ничего, любите французского короля, он превыше всего, и одно движение его руки, держащей скипетр, защитит вас от всех и даже от угрызений вашей совести?»
И молодая женщина послушалась королевских речей, уступила соблазнявшему ее голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получала в награду неверность, тем более оскорбительную для нее, что ей предпочли другую, стоявшую гораздо ниже ее, имевшую право считать себя любимой.
Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то ее нельзя за это винить.
Если же, напротив, она была только пассивной зрительницей события, то какие основания были у короля сердиться на нее?
Разве она была обязана, разве могла она обуздать провинциальные язычки? Разве она должна была в чрезмерном усердии подавить дерзость этих трех девчонок?
Все эти рассуждения наносили чувствительный укол гордости короля; однако, перебрав мысленно все свои обиды и как бы перевязав рану, Людовик XIV с удивлением ощутил новую, непонятную, глухую, нестерпимую боль.
И он не смел признаться себе, что эта режущая боль гнездится у него в сердце.
В самом деле, историку нужно поведать читателям, как король говорил сам с собой: он позволил наивному признанию Лавальер пощекотать свое сердце; он поверил в чистую любовь, любовь к человеку, любовь бескорыстную, и его душа, которая была гораздо моложе и гораздо наивнее, чем он предполагал, устремилась навстречу другой душе, только что открывшей ему свои желания.
Необыкновеннее всего в сложной истории любви – взаимосвязанность чувств двух сердец: нет ни одновременности, ни равенства; одно сердце почти всегда начинает любить раньше другого и почти всегда перестает любить после другого. Электрический ток порождается интенсивностью первой вспыхнувшей страсти. Чем больше любви выказала Лавальер, тем сильнее почувствовал ее король.
Именно это и удивляло короля.
Ведь ему ясно доказали, что симпатический ток не мог увлечь его сердца, потому что это признание не было признанием любви, потому что оно было только оскорблением, нанесенным человеку и королю, потому что, словом, оно было мистификацией.
Таким образом, эта девушка, у которой, строго говоря, не было ничего особенного, средние красота, знатность, ум, – таким образом, эта бедная девушка, выбранная принцессой за ее ничтожество, не только бросила вызов королю, но еще и пренебрегла королем, то есть человеком, которому, как азиатскому султану, стоило только бросить взгляд, протянуть руку, уронить платок, чтобы одержать победу.
Со вчерашнего вечера он был так занят этой девушкой, что не мог думать ни о чем другом; со вчерашнего вечера его воображение украшало ее всеми прелестями, которых у нее не было; словом, он, король, у которого было столько неотложных дел, которого призывало столько женщин, со вчерашнего вечера посвятил все минуты своей жизни, все биения своего сердца единственной мечте.
Поистине, это было слишком.
И так как негодование короля заставило его позабыть обо всем, в частности о присутствии де Сент-Эньяна, то оно изливалось в самых неистовых ругательствах.
Правда, де Сент-Эньян забился в уголок и лишь оттуда наблюдал за грозой.
По сравнению с королевским гневом его собственное разочарование казалось ему ничтожным; он только боялся, как бы этот гнев не обрушился на него.
В самом деле, король вдруг перестал расхаживать по комнате и, устремив на Сент-Эньяна разгневанный взгляд, произнес:
– А ты, де Сент-Эньян?
Де Сент-Эньян сделал движение, которое обозначало: «Что вы хотите сказать, государь?»
– Да, ты оказался таким же дураком, как и я, не правда ли?
– Государь… – пролепетал де Сент-Эньян.
– Ты попался на эту грубую шутку?
– Государь, – заговорил де Сент-Эньян, начав дрожать всем телом, – пусть ваше величество не гневается: вашему величеству известно, что женщины – существа несовершенные, созданные для зла; следовательно, требовать от них добра невозможно.
Король, питавший глубокое уважение к своей личности и начинавший постигать искусство владеть своими страстями, которое он сохранил на всю жизнь, – король понял, что роняет свое достоинство, проявляя столько горячности по такому ничтожному поводу.
– Нет, – живо сказал он, – нет, ты ошибаешься, Сент-Эньян, я не сержусь; я только восхищаюсь той ловкостью и смелостью, которые были обнаружены этими двумя девицами, а больше всего удивляюсь я тому, как глупо положились мы на голос своего сердца, имея возможность разузнать все подробности.
– О, сердце, государь, сердце! Этому органу следует предоставить только его физические функции, отняв от него все функции моральные. Признаюсь, увидев, что сердце вашего величества так сильно занято этой…
– Занято? Мое сердце? Ум – может быть; что же касается сердца… то оно…
Людовик снова заметил, что, желая прикрыть один фланг, он готов обнажить другой.
– Впрочем, – прибавил он, – мне не за что упрекать эту малютку. Я же знал, что она любит другого.
– Виконта де Бражелона, да. Я ведь предупреждал ваше величество.
– Ты прав, но не ты был первый. Граф де Ла Фер просил у меня руки мадемуазель де Лавальер для своего сына. Ну, раз они любят друг друга, я обвенчаю их, как только Бражелон вернется из Англии.
– Узнаю все великодушие короля.
– Довольно, Сент-Эньян, довольно об этом, – остановил его Людовик.
– Да, позабудем обиду, государь, – покорился придворный.
– К тому же это будет нетрудно, – отвечал король со вздохом.
– И для начала я напишу на эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю ее: «Наяда и Дриада»; это доставит удовольствие принцессе.
– Действуй, де Сент-Эньян, действуй, – прошептал король. – Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет. Все это пустяки, Сент-Эньян, пустяки, – прибавил король с видом человека, которому трудно дышать.
Когда король оправился и ему удалось придать своему лицу выражение ангельского терпения, в дверь постучал камер—динер.
Де Сент-Эньян почтительно отошел в сторону.
– Войдите, – сказал король.
Камердинер приоткрыл дверь.
– Что случилось? – спросил Людовик.
Камердинер показал записку, сложенную треугольником.
– Для его величества, – сказал он.
– От кого?
– Не знаю, письмо было передано одним из дежурных офицеров.
По знаку короля лакей подал письмо.
Король подошел к свече, вскрыл письмо, прочитал подпись и не мог удержаться от восклицания.
Сент-Эньян, почтительно отошедший в сторону, тем не менее все видел и слышал.
Он подбежал к королю.
Король отпустил лакея движением руки.
– Боже мой! – произнес король, читая письмо.
– Ваше величество нездоровы? – спросил де Сент-Эньян.
– Нет, нет, Сент-Эньян, читай!
И король подал ему письмо.
Глаза де Сент-Эньяна жадно устремились к подписи.
– Лавальер! – воскликнул он. – О, государь!
– Читай, читай!
И де Сент-Эньян прочел:
«Государь, простите мне мою назойливость, главное же, простите несоблюдение этикета в этом письме; но оно кажется мне более спешным и более неотложным, чем какая-нибудь депеша; итак, я позволяю себе обратиться с письмом к вашему величеству.
Я вернулась к себе, разбитая горем и усталостью, государь, и умоляю ваше величество дать мне аудиенцию, на которой я скажу моему королю всю правду.
Луиза де Лавальер».– Что скажешь? – спросил король, отбирая письмо у Сент-Эньяна, совершенно озадаченного тем, что он прочитал.
– Что я скажу? – повторил де Сент-Эньян.
– Что ты об этом думаешь?
– Не знаю.
– А все-таки?
– Государь, малютка почуяла грозу и испугалась.
– Чего испугалась? – удивился Людовик.
– Гм! У вашего величества есть тысяча причин сердиться на автора или на авторов этой злой шутки, а память вашего величества, обращенная в недобрую сторону, служит вечной угрозой для человека, проявившего неосторожность.
– Я другого мнения.
– Король видит лучше меня.
– Вот что я вижу в этих строчках: горе, принуждение… Особенно если вспомнить некоторые подробности сцены, разыгравшейся у принцессы… Словом…
Король не договорил.
– Словом, – подхватил Сент-Эньян, – ваше величество хотите дать аудиенцию. Вот что для меня ясно.
– Я сделаю больше, Сент-Эньян.
– Что именно, государь?
– Возьми плащ…
– Но, государь…
– Ты знаешь, где комната фрейлин принцессы?
– Конечно.
– И знаешь, как туда проникнуть?
– Нет, этого я не знаю.
– Но все-таки ты знаком там с кем-нибудь?
– Поистине, вы, государь, – источник счастливых мыслей.
– Ты кого-нибудь знаешь?
– Да.
– Кого же?
– Одного молодого человека, который в хороших отношениях с одной девушкой.
– Фрейлиной?
– Да, фрейлиной, государь.
– Де Тонне-Шарант? – со смехом спросил Людовик.
– К несчастью, нет; с Монтале.
– Его зовут?
– Маликорн.
– И ты можешь положиться на него?
– Мне кажется, государь. У него, наверное, есть какой-нибудь ключ… А если есть, он мне одолжит его… Я оказал ему одну услугу.
– Тем лучше. Идем!
– Я к услугам вашего величества.
Король накинул свой плащ на плечи де Сент-Эньяна, а сам надел его плащ, и оба вышли в вестибюль.
Часть четвертая
I
Чего не предвидели ни наяда, ни дриада Де Сент-Эньян остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоли к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать Маликорна, который еще был у принца.
Через десять минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту.
Король отступил в дальний угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Эньян выступил вперед.
Выслушав его просьбу, Маликорн растерялся.
– Ого, – сказал он, – вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты фрейлин?
– Да.
– Вы понимаете, что я не могу исполнить подобной просьбы, не зная цели вашего визита?
– К несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение; вы должны довериться мне, как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня.
– Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно: я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом, вы же ничего не сообщаете мне.
– Поверьте, дорогой Маликорн, – настаивал де Сент-Эньян, – что, если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все.
– В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале.
– Почему?
– Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале; согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату.
– Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты?
– Тогда от чьей же?
– Она, кажется, живет не одна?
– Нет, не одна.
– Вместе с мадемуазель де Лавальер?
– Да, но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же как и к мадемуазель де Монтале; есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ: господину де Бражелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне.
– В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю, – произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. – Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер; у нас дело только к ней.
– Король! – вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика.
– Да, король, – отвечал с улыбкой Людовик, – который вам так же благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас.
– Слушаю, государь, – сказал Маликорн, поднимаясь с колен.
– Попросите мадемуазель де Монтале спуститься, – приказал король, – и ни слова о моем визите.
Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице.
Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты фрейлин.
Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальер, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтале, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном.
Король быстро распахнул дверь и вошел. Монтале вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это, Лавальер тоже выпрямилась, но тотчас же снова упала в кресло.
Король медленно подошел к ней.
– Вы хотели аудиенции, мадемуазель, – холодно начал он, – я готов выслушать вас. Говорите.
Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого, поместился в углу подле двери на табурете, который точно нарочно был поставлен для него. Спрятавшись за портьеру, он исполнял роль доброй сторожевой собаки, охраняющей своего хозяина и не беспокоящей его.
Пришедшая в ужас при виде раздраженного короля, Лавальер встала во второй раз и умоляюще взглянула на Людовика.







