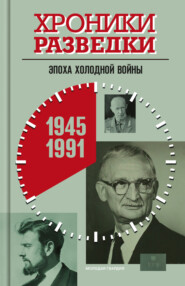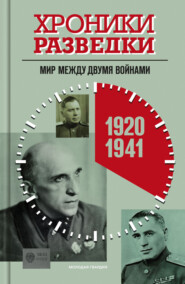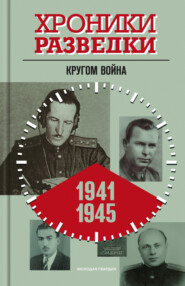По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юные герои Отечества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Случилось это в те дни, когда только окончились Рождественские праздники, а зима была в самом разгаре, все вокруг снегом усыпано, куда ни глянь – бесконечные белые поля расстилаются, за горизонт уходят. И лес стал белым, и речка, льдом покрытая. В самом селе от улиц только тропинки в снегу протоптанные остались, да по дворам снег расчищен, а так – сугробы высоченные! Детворе раздолье – хоть весь день с улицы не уходи. Можно на санках или ледянках с берега кататься, можно снежную крепость выстроить и от врагов ее оборонять… Никакой мороз тут не страшен.
И вот в один такой морозный и солнечный день в селе Казанки, что в Самарской губернии, на Волге, ребята, те, что постарше, затеяли играть в снежки. Собрались за околицей, ну и пошли с веселыми криками стенка на стенку, не жалея закидывали друг друга увесистыми снежными комками. Смотрел на эту потеху десятилетний Андрюшка Татьянин, завидовал и радовался – здорово! Как будто снежные тучи по земле кружатся! Только тут и самому надо было быть осторожным, чтоб крепким снежком нос не разбили, чтобы самого в этой кутерьме не помяли, не затоптали нечаянно. Вот и крутился мальчишка – щеки от ветра и мороза красные, как два снегиря, – неподалеку от играющих, но близко не подходил, отступал предусмотрительно, зато кричал громко и азартно:
– Так ему! Так ему! Дай еще! Не трусь! Вперед!
Мыслями и сердцем он был там, в самой свалке, и представлял себя самым сильным, самым храбрым, но понимал, что мал еще и слаб, и потому благоразумно стоял в сторонке. Не пришло еще его время для таких проказ. А как же ему сейчас хотелось поскорее подрасти!
Тут одна «команда», или как ее назвать, над другой перевес взяла, теснить стала. Андрюшка-то как раз позади отступающих оказался и вместе с ними отходить начал, только на некотором безопасном от них расстоянии. Так он, раскрыв рот, на них смотрел и пятился, что не заметил, как до колодца дошел. Сруб у колодца высокий был, но теперь столько снегу насыпало, что все вокруг сугробами занесло, и колодец чуть ли не искать приходилось. Накрывала сруб большая деревянная крышка, но она в мороз настолько снизу обледенела, что едва мальчишка спиной ее коснулся, того даже и не почувствовав, как крышка съехала и на снег за колодец упала, открыв семисаженную пропасть со стылой водой внизу… А сажень, как известно, более двух метров будет.
Тут сделал Андрюша еще один неверный шаг, запнулся за бревенчатый сруб, закричал испуганно, руками взмахнул, но не удержался – и полетел в колодец вниз головой, только подшитые валенки сверкнули.
Заметили ребята это сразу, закричали: «Андрюшка в колодце, спасите!». Все столпились вокруг, но дальше-то что делать? Колодец глубокий, прямо-таки бездонный, стенки сруба изнутри толстым слоем льда покрыты, зацепиться не за что, упереться не во что – как туда невредимым спуститься, а главное – как потом оттуда выбраться да еще вытащить мальчика, попавшего в беду?
Тем временем со всего села стали сбегаться люди. Мать Андрюшки к односельчанам бросается, плачет, умоляет: «Помогите! Спасите сыночка!
Один он у меня!» А что тут поделаешь, как материнскому горю поможешь? Стоят все, глаза потупив, молчат угрюмо, с ноги на ногу переминаются… Вот и широкоплечий здоровяк Андрей Голышев вздыхает, не знает, чем помочь. Хотя, как только суматоха началась, он первым делом в сарай забежал, схватил веревку, к которой деревянное ведро привязано было – как раз из этого колодца воду доставали. Но она тонкая у него была, ветхая, да еще и в узлах. Ведро с водой выдержит, а вот мужика дюжего – нет. В общем, никчемная сейчас вещь, бесполезная. Да и ему самому в замерзшем колодце, если бы полез, было бы не развернуться.
Неподалеку от колодца стояла изба старосты. Как раз в тот самый момент деревенский начальник послал с каким-то поручением к соседу смышленого парнишку лет шестнадцати – Мишу Матушкина. Вышел тот из избы, увидел, что народ толпится, подбежал к колодцу, все с полуслова понял. Скинул полушубок:
– Дядь Андрей, веревку давай!
– Ну, смотри, парень! – только и сказал Голышев, протягивая веревку с ведром.
Понимал: тут одного пацаненка не вытащить, а ежели двух?! Но и стоять просто так нельзя – не по-людски это получается.
Стал мужик себе другой конец веревки на руку накручивать, чтобы надежно было, не выпустить случайно – теперь от этой веревки сразу две жизни зависели. Миша взобрался на сруб, сел на ведро, перекрестился:
– Опускай!
Андрей Голышев начал медленно стравливать веревку в колодец. Холодно было, мороз, и руки у него голые, так что обледеневшая веревка сразу же их до крови порезала, да еще и Мишка Матушкин не маленький пацаненок был. Тут подскочил другой крестьянин, Василий Завалихин, поддержал, помог – так они вдвоем парня в колодец, в темную ледяную пещеру, и опустили.
Увидел Миша, что Андрюшка Татьянин на поверхности воды лежит: то ли одежонка еще не намокла и вниз его не потащила, не то раскорячился он так, в стенки колодца уперся – тут уж не время разбираться было. Хотя парнишка не шевелился и глаза у него были закрыты, но видно было, что живой, дышал он тяжело и прерывисто. Взял его Миша на руки, крикнул:
– Еще веревка есть?
Оказалось, уже вторую веревку принесли и сразу же ему конец сбросили. Тогда он обвязал мальчика под мышками, сказал, чтобы поднимали. Вытащили Андрюшу. Затем, вслед за ним, и Мишу Матушкина. И хоть пришлось ему искупаться в холодной воде, но ничего, выдержал. А бедный Андрюшка Татьянин долго потом болел – то ли простудился крепко, то ли просто с перепугу…
К чему ведет озорство…
(Гриша Странников)
Василий Чекалов, староста села Ивановское, отец двенадцатилетнего Гриши, был человек строгий, требовательный, но дельный и к людям справедливый. Мужики его за это уважали, хотя и побаивались. Сам староста работник был хороший, справный, а потому при деньгах; вот и купил он как-то на ярмарке коня Сивку – красивого, статного, норовистого. Гриша, сынок, в новом коне души не чаял – и чистил его, и поил… Прямо как хозяин для него был, и все другие ребята в селе это видели и ему завидовали.
Однажды сказал отец Грише отвести Сивку на озеро – искупать. Гриша позвал своих приятелей-ровесников, все и пошли, благо день был летний, знойный, самый подходящий для купания. Народ-то взрослый весь в поле был, сенокос в самом разгаре – недаром же говорят, что один летний день весь год кормит. Ну а ребятам тогда приходилось всякую домашнюю работу справлять.
Начали они плескаться у берега, потому как родители строго-настрого им запрещали далеко заплывать и могли, если бы узнали, за это всыпать «горяченьких». Но вот Гриша перед товарищами пофорсить решил.
– Эй, смотрите, как я! – гордо крикнул он товарищам.
Сел мальчик на спину неоседланного коня, правой рукой подбоченился и направил его прямо в озеро. Тот спокойно пошел, а как зашел поглубже, то и поплыл. Гриша верхом сидит, за гриву держась, красуется, а все другие ребята смотрят на него и завидуют – каждому из них хотелось бы вот так прокатиться на коне по озеру… Только потом понял старостин сынок, что Сивка уж слишком далеко от берега уплыл, оказался на глубоком месте – и стал он коня обратно поворачивать. А тот-то норовистый, не хочет, плывет себе и плывет, только пофыркивает. Задергался мальчишка, запаниковал и с перепугу в воду свалился! Конь же, как ни в чем не бывало, дальше поплыл. Известно, что на человека лежащего конь никогда копытом не наступит, но вот спасать утопающих кони не приучены.
Место глубокое, до берега далеко, Гриша совсем перепугался, да и устал здорово, пока с Сивкой пытался управиться. Забил мальчишка по воде ручонками, закричал, так что еще и воды наглотался.
Хорошо приятель его – другой Гриша, по фамилии Странников, – не растерялся, бросился на помощь. Плывет саженками и кричит:
– Держись, брат, я сейчас!
Подплыл, схватил друга за волосы, за собой потащил. А Гриша Чекалов уже еле дышит, чуть шевелится… Все-таки дотащил его приятель до берега, тут другие ребятишки подбежали, на траву его вытащили и откачали. Ожил мальчишка, в себя пришел.
Так потом строгий староста Василий Чекалов Гришу Странникова при всем селе благодарил. В ноги ему поклонился и сказал: «Спасибо, Григорий, вовек не забуду!» А ведь парнишке-то всего 12 лет было – и такое уважение! Но, конечно, было за что.
«Главное – сестричка жива!»
(Володя Коштин)
Не везло в жизни крестьянину Осипу Коштину, что проживал в селе Новая Слобода Курской губернии. Хотя и мужик он был справный, работящий и достаток в доме имел, хозяйство держал большое, все в том хозяйстве имелось – да только счастья не оказалось. А без счастья – что это за жизнь? Еще когда его сыну Володьке всего только пять лет было, умерла любимая жена Коштина, вдвоем их оставила. Погоревал мужик, нанял няньку – молодую, красивую Агафью, чтоб за парнишкой приглядывала, пока он в поле работает, и по дому помогала. Хорошая девушка была – работящая, аккуратная, добрая, о людях заботливая, и полюбились они с Осипом друг другу, вот и обвенчались два года спустя. Мальчишка в мачехе души не чаял, только мамой ее и звал – она ему как родная была…
Но вскоре опять пришла беда в дом к Осипу. Когда Володьке было двенадцать, Агафья родила ему сестренку, а сама через день умерла. Девчушку, в память о покойной матери, тоже Агашей окрестили.
Внезапное горе просто согнуло Осипа – и так уже не молодой мужик был, а тут вообще постарел буквально на глазах. Надо бы было теперь для младенчика няньку взять, да он наотрез отказался. И то хорошо, что девочка тихая была, смирная, вся в матушку. Уйдут мужики на работу – а Володьке, несмотря на малые годы, наравне с отцом трудиться приходилось, – оставят Агаше рожок с молоком, она и довольна: лежит, улыбается. То спит, то бормочет чего-то на своем младенческом языке и при этом улыбается, то молочко сосет – не плачет, не капризничает. И отец, и брат в малютке своей души не чаяли.
– Вот оно теперь, наше счастье! – говорил, глядя на дочку, Осип, а у самого слезы на глаза наворачивались. – Беречь ее надо.
И вот однажды, в сентябре дело было, озимые пора было сеять, ушли Осип с сыном в поле – верстах в двух от дома. Агаше, как всегда, полный рожок молока оставили.
Работали мужики старательно, дело спорилось, а в полдень пообедали и легли под кустом, в тенечке, передохнуть немного. Вдруг слышат – набат загудел, колокол церковный часто-часто тревогу бьет. Значит, беда какая-то в селе случилась. Глянули – точно, над домами черный дым столбом поднимается. Сразу же все побросали, побежали туда, где огонь занялся. Оно ведь как на деревне было: если пожар, то его только всем миром, всем обществом победить можно, и неважно, у кого горит – дома тесно друг к другу стояли, огонь запросто с одного на другой перекидывался. И если, бывало, не поспеют люди, зазеваются, замешкаются – глядят, а тут уже и вся улица занялась. Огонь для русской деревни, где все дома из дерева рублены, – первый враг! «Вор хоть стены оставляет, а пожар ничего не щадит!» – была такая грустная присказка.
Вот и сбегался народ со всех сторон – кто ведра с водой тащил, чтобы огонь заливать, кто багор нес – горящие бревна растаскивать…
Подбегая, увидели, что горела, во всю уже полыхая, изба самого Осипа. Крыша соломенная уже в огне, бревна почернели, потрескивают, языки пламени по ним скользят.
– Как же так, батька?! – только и сумел вымолвить Володя, глядя на эту ужасную картину.
Но как, почему изба загорелась – узнай, попробуй! Да и неважно тогда это было. Главное, о чем сразу оба Коштина подумали, – в доме малый ребенок остался, Агаша их ненаглядная, дочурка и сестричка.
Хотел Осип броситься в горящее свое жилище, да понял, что силы у него уже не те, так что и сам погибнет, и ребенка не спасет. Тогда к избе бросился Иван Мохнаев, свояк Коштина – муж сестры покойной его жены Агафьи. Но только он подошел, как с пылающей крыши прямо на него свалился пук горящей соломы и крепко обжег мужику руку. Остановился тот, растерялся. Тут ведь дело такое: если сразу, очертя голову, в огонь бросишься – то сумеешь, а если думать начнешь, как оно и что, – пиши пропало, уже себя не заставишь. В общем, не смог Мохнаев в избу горящую войти. Да тут как раз в сенях крыша с грохотом обвалилась. Вот-вот и вся изба рухнет.
– Спаси, сынок! – пробормотал Осип.
И понял тут Володя, что если не он, так больше этого сделать некому! Кинулся он в горящую избу, откуда страшным жаром палило, хотя кто-то и кричал ему вслед:
– Куда ты, парень, пропадешь!
Заскочил. Страшно в родном доме стало: нестерпимо жарко, все в дыму, рот противной горечью наполнился, глаза режет, слезы текут, дышать нечем, ничего не видно, а сверху, над головой, кровля зловеще трещит… Где же Агаша, роднулечка, жива ли она, маленькая?! Так-то он бы ее сразу нашел, что днем, что ночью – а здесь, в этом дыму. Но не растерялся мальчишка – ударил кулаком по стеклу, руку в кровь порезал, но зато дым из разбитого окна наружу пошел, в избе чуть прояснилось, и он сразу колыбельку увидел. Схватил младенчика, в одеяльце обернул, к груди прижал – и прочь из избы!
Как только Володя во двор выскочил, с грохотом рухнула крыша, столб пламени вверх взметнулся. Вот и нету избы, дома родного!
Что ж, жалко, конечно, что и говорить. А впрочем, чего об избе горевать, если сестренка жива? Изба – дело наживное.
И вот в один такой морозный и солнечный день в селе Казанки, что в Самарской губернии, на Волге, ребята, те, что постарше, затеяли играть в снежки. Собрались за околицей, ну и пошли с веселыми криками стенка на стенку, не жалея закидывали друг друга увесистыми снежными комками. Смотрел на эту потеху десятилетний Андрюшка Татьянин, завидовал и радовался – здорово! Как будто снежные тучи по земле кружатся! Только тут и самому надо было быть осторожным, чтоб крепким снежком нос не разбили, чтобы самого в этой кутерьме не помяли, не затоптали нечаянно. Вот и крутился мальчишка – щеки от ветра и мороза красные, как два снегиря, – неподалеку от играющих, но близко не подходил, отступал предусмотрительно, зато кричал громко и азартно:
– Так ему! Так ему! Дай еще! Не трусь! Вперед!
Мыслями и сердцем он был там, в самой свалке, и представлял себя самым сильным, самым храбрым, но понимал, что мал еще и слаб, и потому благоразумно стоял в сторонке. Не пришло еще его время для таких проказ. А как же ему сейчас хотелось поскорее подрасти!
Тут одна «команда», или как ее назвать, над другой перевес взяла, теснить стала. Андрюшка-то как раз позади отступающих оказался и вместе с ними отходить начал, только на некотором безопасном от них расстоянии. Так он, раскрыв рот, на них смотрел и пятился, что не заметил, как до колодца дошел. Сруб у колодца высокий был, но теперь столько снегу насыпало, что все вокруг сугробами занесло, и колодец чуть ли не искать приходилось. Накрывала сруб большая деревянная крышка, но она в мороз настолько снизу обледенела, что едва мальчишка спиной ее коснулся, того даже и не почувствовав, как крышка съехала и на снег за колодец упала, открыв семисаженную пропасть со стылой водой внизу… А сажень, как известно, более двух метров будет.
Тут сделал Андрюша еще один неверный шаг, запнулся за бревенчатый сруб, закричал испуганно, руками взмахнул, но не удержался – и полетел в колодец вниз головой, только подшитые валенки сверкнули.
Заметили ребята это сразу, закричали: «Андрюшка в колодце, спасите!». Все столпились вокруг, но дальше-то что делать? Колодец глубокий, прямо-таки бездонный, стенки сруба изнутри толстым слоем льда покрыты, зацепиться не за что, упереться не во что – как туда невредимым спуститься, а главное – как потом оттуда выбраться да еще вытащить мальчика, попавшего в беду?
Тем временем со всего села стали сбегаться люди. Мать Андрюшки к односельчанам бросается, плачет, умоляет: «Помогите! Спасите сыночка!
Один он у меня!» А что тут поделаешь, как материнскому горю поможешь? Стоят все, глаза потупив, молчат угрюмо, с ноги на ногу переминаются… Вот и широкоплечий здоровяк Андрей Голышев вздыхает, не знает, чем помочь. Хотя, как только суматоха началась, он первым делом в сарай забежал, схватил веревку, к которой деревянное ведро привязано было – как раз из этого колодца воду доставали. Но она тонкая у него была, ветхая, да еще и в узлах. Ведро с водой выдержит, а вот мужика дюжего – нет. В общем, никчемная сейчас вещь, бесполезная. Да и ему самому в замерзшем колодце, если бы полез, было бы не развернуться.
Неподалеку от колодца стояла изба старосты. Как раз в тот самый момент деревенский начальник послал с каким-то поручением к соседу смышленого парнишку лет шестнадцати – Мишу Матушкина. Вышел тот из избы, увидел, что народ толпится, подбежал к колодцу, все с полуслова понял. Скинул полушубок:
– Дядь Андрей, веревку давай!
– Ну, смотри, парень! – только и сказал Голышев, протягивая веревку с ведром.
Понимал: тут одного пацаненка не вытащить, а ежели двух?! Но и стоять просто так нельзя – не по-людски это получается.
Стал мужик себе другой конец веревки на руку накручивать, чтобы надежно было, не выпустить случайно – теперь от этой веревки сразу две жизни зависели. Миша взобрался на сруб, сел на ведро, перекрестился:
– Опускай!
Андрей Голышев начал медленно стравливать веревку в колодец. Холодно было, мороз, и руки у него голые, так что обледеневшая веревка сразу же их до крови порезала, да еще и Мишка Матушкин не маленький пацаненок был. Тут подскочил другой крестьянин, Василий Завалихин, поддержал, помог – так они вдвоем парня в колодец, в темную ледяную пещеру, и опустили.
Увидел Миша, что Андрюшка Татьянин на поверхности воды лежит: то ли одежонка еще не намокла и вниз его не потащила, не то раскорячился он так, в стенки колодца уперся – тут уж не время разбираться было. Хотя парнишка не шевелился и глаза у него были закрыты, но видно было, что живой, дышал он тяжело и прерывисто. Взял его Миша на руки, крикнул:
– Еще веревка есть?
Оказалось, уже вторую веревку принесли и сразу же ему конец сбросили. Тогда он обвязал мальчика под мышками, сказал, чтобы поднимали. Вытащили Андрюшу. Затем, вслед за ним, и Мишу Матушкина. И хоть пришлось ему искупаться в холодной воде, но ничего, выдержал. А бедный Андрюшка Татьянин долго потом болел – то ли простудился крепко, то ли просто с перепугу…
К чему ведет озорство…
(Гриша Странников)
Василий Чекалов, староста села Ивановское, отец двенадцатилетнего Гриши, был человек строгий, требовательный, но дельный и к людям справедливый. Мужики его за это уважали, хотя и побаивались. Сам староста работник был хороший, справный, а потому при деньгах; вот и купил он как-то на ярмарке коня Сивку – красивого, статного, норовистого. Гриша, сынок, в новом коне души не чаял – и чистил его, и поил… Прямо как хозяин для него был, и все другие ребята в селе это видели и ему завидовали.
Однажды сказал отец Грише отвести Сивку на озеро – искупать. Гриша позвал своих приятелей-ровесников, все и пошли, благо день был летний, знойный, самый подходящий для купания. Народ-то взрослый весь в поле был, сенокос в самом разгаре – недаром же говорят, что один летний день весь год кормит. Ну а ребятам тогда приходилось всякую домашнюю работу справлять.
Начали они плескаться у берега, потому как родители строго-настрого им запрещали далеко заплывать и могли, если бы узнали, за это всыпать «горяченьких». Но вот Гриша перед товарищами пофорсить решил.
– Эй, смотрите, как я! – гордо крикнул он товарищам.
Сел мальчик на спину неоседланного коня, правой рукой подбоченился и направил его прямо в озеро. Тот спокойно пошел, а как зашел поглубже, то и поплыл. Гриша верхом сидит, за гриву держась, красуется, а все другие ребята смотрят на него и завидуют – каждому из них хотелось бы вот так прокатиться на коне по озеру… Только потом понял старостин сынок, что Сивка уж слишком далеко от берега уплыл, оказался на глубоком месте – и стал он коня обратно поворачивать. А тот-то норовистый, не хочет, плывет себе и плывет, только пофыркивает. Задергался мальчишка, запаниковал и с перепугу в воду свалился! Конь же, как ни в чем не бывало, дальше поплыл. Известно, что на человека лежащего конь никогда копытом не наступит, но вот спасать утопающих кони не приучены.
Место глубокое, до берега далеко, Гриша совсем перепугался, да и устал здорово, пока с Сивкой пытался управиться. Забил мальчишка по воде ручонками, закричал, так что еще и воды наглотался.
Хорошо приятель его – другой Гриша, по фамилии Странников, – не растерялся, бросился на помощь. Плывет саженками и кричит:
– Держись, брат, я сейчас!
Подплыл, схватил друга за волосы, за собой потащил. А Гриша Чекалов уже еле дышит, чуть шевелится… Все-таки дотащил его приятель до берега, тут другие ребятишки подбежали, на траву его вытащили и откачали. Ожил мальчишка, в себя пришел.
Так потом строгий староста Василий Чекалов Гришу Странникова при всем селе благодарил. В ноги ему поклонился и сказал: «Спасибо, Григорий, вовек не забуду!» А ведь парнишке-то всего 12 лет было – и такое уважение! Но, конечно, было за что.
«Главное – сестричка жива!»
(Володя Коштин)
Не везло в жизни крестьянину Осипу Коштину, что проживал в селе Новая Слобода Курской губернии. Хотя и мужик он был справный, работящий и достаток в доме имел, хозяйство держал большое, все в том хозяйстве имелось – да только счастья не оказалось. А без счастья – что это за жизнь? Еще когда его сыну Володьке всего только пять лет было, умерла любимая жена Коштина, вдвоем их оставила. Погоревал мужик, нанял няньку – молодую, красивую Агафью, чтоб за парнишкой приглядывала, пока он в поле работает, и по дому помогала. Хорошая девушка была – работящая, аккуратная, добрая, о людях заботливая, и полюбились они с Осипом друг другу, вот и обвенчались два года спустя. Мальчишка в мачехе души не чаял, только мамой ее и звал – она ему как родная была…
Но вскоре опять пришла беда в дом к Осипу. Когда Володьке было двенадцать, Агафья родила ему сестренку, а сама через день умерла. Девчушку, в память о покойной матери, тоже Агашей окрестили.
Внезапное горе просто согнуло Осипа – и так уже не молодой мужик был, а тут вообще постарел буквально на глазах. Надо бы было теперь для младенчика няньку взять, да он наотрез отказался. И то хорошо, что девочка тихая была, смирная, вся в матушку. Уйдут мужики на работу – а Володьке, несмотря на малые годы, наравне с отцом трудиться приходилось, – оставят Агаше рожок с молоком, она и довольна: лежит, улыбается. То спит, то бормочет чего-то на своем младенческом языке и при этом улыбается, то молочко сосет – не плачет, не капризничает. И отец, и брат в малютке своей души не чаяли.
– Вот оно теперь, наше счастье! – говорил, глядя на дочку, Осип, а у самого слезы на глаза наворачивались. – Беречь ее надо.
И вот однажды, в сентябре дело было, озимые пора было сеять, ушли Осип с сыном в поле – верстах в двух от дома. Агаше, как всегда, полный рожок молока оставили.
Работали мужики старательно, дело спорилось, а в полдень пообедали и легли под кустом, в тенечке, передохнуть немного. Вдруг слышат – набат загудел, колокол церковный часто-часто тревогу бьет. Значит, беда какая-то в селе случилась. Глянули – точно, над домами черный дым столбом поднимается. Сразу же все побросали, побежали туда, где огонь занялся. Оно ведь как на деревне было: если пожар, то его только всем миром, всем обществом победить можно, и неважно, у кого горит – дома тесно друг к другу стояли, огонь запросто с одного на другой перекидывался. И если, бывало, не поспеют люди, зазеваются, замешкаются – глядят, а тут уже и вся улица занялась. Огонь для русской деревни, где все дома из дерева рублены, – первый враг! «Вор хоть стены оставляет, а пожар ничего не щадит!» – была такая грустная присказка.
Вот и сбегался народ со всех сторон – кто ведра с водой тащил, чтобы огонь заливать, кто багор нес – горящие бревна растаскивать…
Подбегая, увидели, что горела, во всю уже полыхая, изба самого Осипа. Крыша соломенная уже в огне, бревна почернели, потрескивают, языки пламени по ним скользят.
– Как же так, батька?! – только и сумел вымолвить Володя, глядя на эту ужасную картину.
Но как, почему изба загорелась – узнай, попробуй! Да и неважно тогда это было. Главное, о чем сразу оба Коштина подумали, – в доме малый ребенок остался, Агаша их ненаглядная, дочурка и сестричка.
Хотел Осип броситься в горящее свое жилище, да понял, что силы у него уже не те, так что и сам погибнет, и ребенка не спасет. Тогда к избе бросился Иван Мохнаев, свояк Коштина – муж сестры покойной его жены Агафьи. Но только он подошел, как с пылающей крыши прямо на него свалился пук горящей соломы и крепко обжег мужику руку. Остановился тот, растерялся. Тут ведь дело такое: если сразу, очертя голову, в огонь бросишься – то сумеешь, а если думать начнешь, как оно и что, – пиши пропало, уже себя не заставишь. В общем, не смог Мохнаев в избу горящую войти. Да тут как раз в сенях крыша с грохотом обвалилась. Вот-вот и вся изба рухнет.
– Спаси, сынок! – пробормотал Осип.
И понял тут Володя, что если не он, так больше этого сделать некому! Кинулся он в горящую избу, откуда страшным жаром палило, хотя кто-то и кричал ему вслед:
– Куда ты, парень, пропадешь!
Заскочил. Страшно в родном доме стало: нестерпимо жарко, все в дыму, рот противной горечью наполнился, глаза режет, слезы текут, дышать нечем, ничего не видно, а сверху, над головой, кровля зловеще трещит… Где же Агаша, роднулечка, жива ли она, маленькая?! Так-то он бы ее сразу нашел, что днем, что ночью – а здесь, в этом дыму. Но не растерялся мальчишка – ударил кулаком по стеклу, руку в кровь порезал, но зато дым из разбитого окна наружу пошел, в избе чуть прояснилось, и он сразу колыбельку увидел. Схватил младенчика, в одеяльце обернул, к груди прижал – и прочь из избы!
Как только Володя во двор выскочил, с грохотом рухнула крыша, столб пламени вверх взметнулся. Вот и нету избы, дома родного!
Что ж, жалко, конечно, что и говорить. А впрочем, чего об избе горевать, если сестренка жива? Изба – дело наживное.