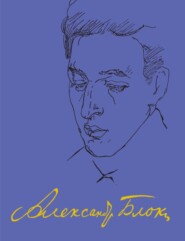По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из записных книжек и дневников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С января уже начались стихи в изрядном количестве. В них – К. М. С., мечты о страстях, дружба с Кокой Гуном (уже остывавшая), легкая влюбленность в m-mе Левицкую – и болезнь. В Шахматове началось со скуки и тоски, насколько помню.
Меня почти спровадили в Боблово. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.
Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н.Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы.
Мы разыграли в сарае «Горящие письма» (Гнедича?), «Букет» (Потапенки), сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен.
Сириус и Вега.
Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицыно, где тетя Соня подарила мне золотой; когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.
К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского стали сравнительно реже (чем Боблова). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекся декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премиером – Берников, он же – известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был – Горский Н. А., а суфлером бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.
В декабре этого года я был с mademoiselle и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?). На одном из спектаклей в Зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна.
Все эти утехи в вихре света […] кончились болезнью.
Я валялся в казармах, в квартире верхнего этажа, читая массу книг (тогда, между прочим, – всего Писемского) и томясь. […] Приходил Виша Грек (тогда юнкер?).
В это время происходило «политическое» – 8 февраля и мартовские события у Казанского собора (рассказ о Вяземском). Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича (Бекетова) и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.
Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе?), когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна, встретившая меня в Гостином дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене политической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец». На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое. – Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет. Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил из лекции, или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.
Не помню, однако, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года). Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим
Приехали в Шахматово (лето 1899). Я стал ездить в Боблово как-то реже, и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).
Помню ночные возвращенья шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны. – «Менделеевы» опять были в Боблове, но спектакли были как-то менее одушевленны.
Были повторения, а из нового – «сцена у фонтана» с Сарой Менделеевой, которую повторили в Дедове с Марусей Коваленской.
В Шахматове, напротив, жизнь была более оживленной. Приезжали Соловьевы и, кажется, А. М. Марконет. Мы с братьями представляли пьесу собственного сочинения и «Спор греческих философов об изящном» на лужайке, а с Сережей служили обедню в березовом кругу. Сережа чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много видевшим видов Дон-Жуаном.
Любовь Дмитриевна уезжала к Менделеевым (кажется). Я ездил в Дедово, где неприлично и парнисто ухаживал за Марусей, а потом – с Сережей в Трубицыно. Там был разговор с Покотиловым о Сормовских заводах (почему-то).
К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» 3. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось.
Тут произошло знакомство с Катей Хрусталевой (осень в Петербурге). Юридический факультет, как и прежде, не памятен. (Должно быть, в ту осень профессор полицейского права Ведров говорил, грассируя: «В одну любовь, широкую, как море…» и т. д.).
В эту зиму (кажется, к весне 1900) произошло знакомство с А. В. Гиппиусом, который пришел ко мне за конспектом государственного права, услыхав от кого-то, что мой конспект хорош. Мы стали видеться, я бывал у него (комната, всегда закрытая, за которой – молчанье большой квартиры, точно вымершей: на дворе (Тарасовского дома) – запах тополей).
В эту зиму было, должно быть, последнее объяснение с К. М. С. (или в предыдущую?). Мыслью я однако продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л. Д. М.
В начале 1900 я взял место на балконе Малого театра: старый Сальвини играл Лира. Мы оказались рядом с Любовь Дмитриевной и с ее матерью. Любовь Дмитриевна тогда кончала курс в гимназии (Шаффе).
Все еще возвращались воспоминания о К. М. С. (стихи 14 апреля). Отъезд в Шахматове был какой-то грустный (стихи 16 мая). Первое шахматовское стихотворение («Прошедших дней…». 28 мая) показывает, как овеяла опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было утрачено).
Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи. Начинается покорность богу и Платон. В августе(?) решено окончательно, что я перейду на филологический факультет. «Паскаль» Зола (и др.). Как было в Боблове?
Осенью Любовь Дмитриевна поступила на курсы. Первое мое петербургское стихотворение – 14 сентября. Лекции Ернштедта, хождения в университет утром. В сентябре – опять возвращается воспоминание о К. М. С. (при взгляде на ее аметист 1897 года). Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти (стихотворение 22 октября) с покаяниями после них.
Тут я хвастаюсь у Качаловых своим Платоном. У Петра Львовича Блока читаю «Три смерти» (Люция; Петр Львович – Лукана; И. И. Лапшин – Сенеку).
К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 24 декабря («В полночь глухую…»), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было).
В январе 1901 г. – концерт Панченки (не к главному для меня). 25 января – гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом состоянии. В конце января и начале февраля (еще – синие снега около полковой церкви, – тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно – 26 февраля, где указано ясно Ее стремление отсюда для встречи «с началом близким и чужим» (?) – и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и «на отлете», мне же дано только смотреть и благословлять отлет).
В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту – до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут – витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились «пять изгибов».
На следующее утро я опять увидал Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама).
Я покорился неведенью и боли (психологически – всегдашней суровости Л. Д. Менделеевой).
Бывала Катя Хрусталева, с которой я кокетничал своим Тайным знанием и мелодекламировал стихи Ал. Толстого, Апухтина и свои.
К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты). Все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева, книгу которых подарила мне мама на Пасху этого года.
А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые «Северные цветы» «Скорпиона», которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем «мистическое лето» эта книга играла также особую роль.
В том же мае я впервые попробовал «внутреннюю броню» – ограждать себя «тайным ведением» от Ее суровости («Все бытие и сущее…»). Это, по-видимому, было преддверием будущего «колдовства», так же как необычайное слияние с природой.
Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо. В первом стихотворении шахматовском это лицо приняло странный образ «Российской Венеры». Потом следуют необыкновенно важные «ворожбы» и «предчувствие изменения облика».
Тут же получают смысл и высшее значение подробности незначительные с виду и явления природы (болотные огни, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью…).
Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.
Тут я ездил в Дедово, где уже не ухаживал за Марусей, но вел серьезные разговоры с Соловьевыми. Дядя Миша подарил мне на прощанье сигару и только что вышедший (им выпущенный) I том Вл. Соловьева.
Осенью Сережа приезжал в Шахматово. Осень была преисполнена напряженным ожиданием. История с венком и подушкой произошла, кажется, в это лето (или в предыдущее?). На фабрике я читал «Хирургию» Чехова. Спектаклей, кажется, не было. Были блуждания на лошади вокруг Боблова (с исканием места свершений) – Ивлево, Церковный лес. Прощание я помню: Любовь Дмитриевна вышла в гостиную (холодная яркая осень) с напудренным лицом.
Возвращение в Петербург было с мамой 6 сентября в одном поезде с М. С. Соловьевым, который рассказывал, что в Москве есть Боря Бугаев, что там обращено внимание на мои стихи. Рано утром он, сутулясь, вышел в Саблине, чтобы ехать в Пустыньку за бумагами, касающимися брата.
Сентябрь прошел сравнительно с внутренним замедлением (легкая догматизация). Любовь Дмитриевна уже опять как бы ничего не проявляла. В октябре начались новые приступы отчаянья (Она уходит, передо мной – «грань богопознанья»), Я испытывал сильную ревность (без причины видимой). Знаменательна была встреча 17 октября.
К ноябрю началось явное мое колдовство, ибо я вызвал двойников («Зарево белое…», «Ты – другая, немая…»).
Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской – Литейной (конец ноября, начало декабря). Чаще, чем со мной, она встречалась с кем-то – кого не видела и о котором я знал.
Появился мороз, «мятель», «неотвязный» и царица, звенящая дверь, два старца, «отрава» (непосланных цветов), свершающий и пользующийся плодами свершений («другое я»), кто-то «смеющийся и нежный». Так кончился 1901 год. Тут – Боткинский период.
Новогодний визит. Гаданье m-mе Ленц и восторг (демонический: «Я шел…»).
_________
В. МАЯКОВСКОМУ
Не так, товарищ!
Меня почти спровадили в Боблово. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.
Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н.Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы.
Мы разыграли в сарае «Горящие письма» (Гнедича?), «Букет» (Потапенки), сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен.
Сириус и Вега.
Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицыно, где тетя Соня подарила мне золотой; когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.
К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского стали сравнительно реже (чем Боблова). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекся декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премиером – Берников, он же – известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был – Горский Н. А., а суфлером бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.
В декабре этого года я был с mademoiselle и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?). На одном из спектаклей в Зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна.
Все эти утехи в вихре света […] кончились болезнью.
Я валялся в казармах, в квартире верхнего этажа, читая массу книг (тогда, между прочим, – всего Писемского) и томясь. […] Приходил Виша Грек (тогда юнкер?).
В это время происходило «политическое» – 8 февраля и мартовские события у Казанского собора (рассказ о Вяземском). Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича (Бекетова) и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.
Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе?), когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна, встретившая меня в Гостином дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене политической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец». На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое. – Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет. Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил из лекции, или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.
Не помню, однако, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года). Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим
Приехали в Шахматово (лето 1899). Я стал ездить в Боблово как-то реже, и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).
Помню ночные возвращенья шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны. – «Менделеевы» опять были в Боблове, но спектакли были как-то менее одушевленны.
Были повторения, а из нового – «сцена у фонтана» с Сарой Менделеевой, которую повторили в Дедове с Марусей Коваленской.
В Шахматове, напротив, жизнь была более оживленной. Приезжали Соловьевы и, кажется, А. М. Марконет. Мы с братьями представляли пьесу собственного сочинения и «Спор греческих философов об изящном» на лужайке, а с Сережей служили обедню в березовом кругу. Сережа чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много видевшим видов Дон-Жуаном.
Любовь Дмитриевна уезжала к Менделеевым (кажется). Я ездил в Дедово, где неприлично и парнисто ухаживал за Марусей, а потом – с Сережей в Трубицыно. Там был разговор с Покотиловым о Сормовских заводах (почему-то).
К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» 3. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось.
Тут произошло знакомство с Катей Хрусталевой (осень в Петербурге). Юридический факультет, как и прежде, не памятен. (Должно быть, в ту осень профессор полицейского права Ведров говорил, грассируя: «В одну любовь, широкую, как море…» и т. д.).
В эту зиму (кажется, к весне 1900) произошло знакомство с А. В. Гиппиусом, который пришел ко мне за конспектом государственного права, услыхав от кого-то, что мой конспект хорош. Мы стали видеться, я бывал у него (комната, всегда закрытая, за которой – молчанье большой квартиры, точно вымершей: на дворе (Тарасовского дома) – запах тополей).
В эту зиму было, должно быть, последнее объяснение с К. М. С. (или в предыдущую?). Мыслью я однако продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л. Д. М.
В начале 1900 я взял место на балконе Малого театра: старый Сальвини играл Лира. Мы оказались рядом с Любовь Дмитриевной и с ее матерью. Любовь Дмитриевна тогда кончала курс в гимназии (Шаффе).
Все еще возвращались воспоминания о К. М. С. (стихи 14 апреля). Отъезд в Шахматове был какой-то грустный (стихи 16 мая). Первое шахматовское стихотворение («Прошедших дней…». 28 мая) показывает, как овеяла опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было утрачено).
Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи. Начинается покорность богу и Платон. В августе(?) решено окончательно, что я перейду на филологический факультет. «Паскаль» Зола (и др.). Как было в Боблове?
Осенью Любовь Дмитриевна поступила на курсы. Первое мое петербургское стихотворение – 14 сентября. Лекции Ернштедта, хождения в университет утром. В сентябре – опять возвращается воспоминание о К. М. С. (при взгляде на ее аметист 1897 года). Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти (стихотворение 22 октября) с покаяниями после них.
Тут я хвастаюсь у Качаловых своим Платоном. У Петра Львовича Блока читаю «Три смерти» (Люция; Петр Львович – Лукана; И. И. Лапшин – Сенеку).
К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 24 декабря («В полночь глухую…»), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было).
В январе 1901 г. – концерт Панченки (не к главному для меня). 25 января – гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом состоянии. В конце января и начале февраля (еще – синие снега около полковой церкви, – тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно – 26 февраля, где указано ясно Ее стремление отсюда для встречи «с началом близким и чужим» (?) – и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и «на отлете», мне же дано только смотреть и благословлять отлет).
В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту – до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут – витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились «пять изгибов».
На следующее утро я опять увидал Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама).
Я покорился неведенью и боли (психологически – всегдашней суровости Л. Д. Менделеевой).
Бывала Катя Хрусталева, с которой я кокетничал своим Тайным знанием и мелодекламировал стихи Ал. Толстого, Апухтина и свои.
К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты). Все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева, книгу которых подарила мне мама на Пасху этого года.
А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые «Северные цветы» «Скорпиона», которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем «мистическое лето» эта книга играла также особую роль.
В том же мае я впервые попробовал «внутреннюю броню» – ограждать себя «тайным ведением» от Ее суровости («Все бытие и сущее…»). Это, по-видимому, было преддверием будущего «колдовства», так же как необычайное слияние с природой.
Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо. В первом стихотворении шахматовском это лицо приняло странный образ «Российской Венеры». Потом следуют необыкновенно важные «ворожбы» и «предчувствие изменения облика».
Тут же получают смысл и высшее значение подробности незначительные с виду и явления природы (болотные огни, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью…).
Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.
Тут я ездил в Дедово, где уже не ухаживал за Марусей, но вел серьезные разговоры с Соловьевыми. Дядя Миша подарил мне на прощанье сигару и только что вышедший (им выпущенный) I том Вл. Соловьева.
Осенью Сережа приезжал в Шахматово. Осень была преисполнена напряженным ожиданием. История с венком и подушкой произошла, кажется, в это лето (или в предыдущее?). На фабрике я читал «Хирургию» Чехова. Спектаклей, кажется, не было. Были блуждания на лошади вокруг Боблова (с исканием места свершений) – Ивлево, Церковный лес. Прощание я помню: Любовь Дмитриевна вышла в гостиную (холодная яркая осень) с напудренным лицом.
Возвращение в Петербург было с мамой 6 сентября в одном поезде с М. С. Соловьевым, который рассказывал, что в Москве есть Боря Бугаев, что там обращено внимание на мои стихи. Рано утром он, сутулясь, вышел в Саблине, чтобы ехать в Пустыньку за бумагами, касающимися брата.
Сентябрь прошел сравнительно с внутренним замедлением (легкая догматизация). Любовь Дмитриевна уже опять как бы ничего не проявляла. В октябре начались новые приступы отчаянья (Она уходит, передо мной – «грань богопознанья»), Я испытывал сильную ревность (без причины видимой). Знаменательна была встреча 17 октября.
К ноябрю началось явное мое колдовство, ибо я вызвал двойников («Зарево белое…», «Ты – другая, немая…»).
Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской – Литейной (конец ноября, начало декабря). Чаще, чем со мной, она встречалась с кем-то – кого не видела и о котором я знал.
Появился мороз, «мятель», «неотвязный» и царица, звенящая дверь, два старца, «отрава» (непосланных цветов), свершающий и пользующийся плодами свершений («другое я»), кто-то «смеющийся и нежный». Так кончился 1901 год. Тут – Боткинский период.
Новогодний визит. Гаданье m-mе Ленц и восторг (демонический: «Я шел…»).
_________
В. МАЯКОВСКОМУ
Не так, товарищ!